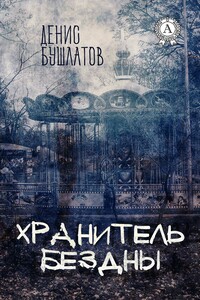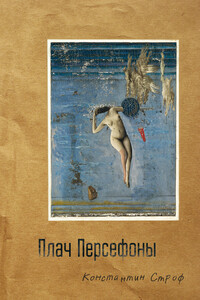Бальтазаров с презрением посмотрел на сына, протянул руку к газовой колонке и без
усилий оторвал от нее половину. Скомкал металл, будто бумагу, и отправил в ненасытную
пасть. Осклабился акульим ртом и непрожеванно заурчал:
- Тихо, тихо, юродивый. Тебя я напоследок оставлю. Будешь у меня пажом при дворе
хаоса. Вселенная четвертого типа, - он с презрением плюнул раскаленным металлом на
ногу Снарядова. Поэт взревел, дернулся, но щупальца лишь плотнее сжались на его теле.
- Быть ей здесь.
- Ты водку ль принес? - взъярился он, - давай сюда шмурдяк. Выпьем как отец с сыном.
А, впрочем, все равно. Вся эта шелуха… слишком человеческая шелуха. Я теперь…
Внезапно Степан ринулся вперед. Как в тумане, полумертвый от боли Снарядов увидел,
что в руках у него появилась бутылка водки… Нет, не бутылка, а кусок бутылочного
стекла, сияющий, как бриллиант. С несуразной нервной быстротой Степан ухватился за
отца правой рукой и ткнул осколком покойника в глаз.
Бальтазаров заорал, и вместе с ним заорал дом: вопили трубы, корчились в агонии стены, мгновенно вспенился линолеум, и потекла мебель. Весь дом ходил ходуном, ревел,
захлебывался. Щупальца, опутавшие тело Снарядова, сжались в чудовищных
конвульсиях. В последнюю секунду своей жизни поэт услышал почти блаженный хруст
собственных костей.
Степан, балансируя на шатающемся скользком полу, выдернул осколок стекла из
отцовской глазницы и запустил им в окно. «Не разобьет!» - пронеслась запоздалая мысль, но оконное стекло разлетелось тысячью крошечных осколков, и в образовавшийся проем
хлынули голуби.
- Я – а-а-а-а-а-а-а наме-е-е-естни-и-и-и-ик!!! - орал Бальтазаров. Из глазницы его обильно
текла вязкая тьма, - Азиму-у-у-у-ут!!!
- Я здесь, - пророкотал голос. - Ты - никто.
За миг до конца Степан узрел похоронного старика в фетровой шляпе и неказистом пальто, висящего за окном. Он держал за руку девочку-гидроцефала, мать голубей, исторгающую
из своей головы все новые сонмы птиц.
- Ведь это я его впустил! - запоздало понял он, - я открыл папу его ключом!
Голуби ухватывались за клочья тьмы, извергаемой Бальтазаровым-вратами, и уносились
прочь. Летели в каждый дом, к каждому сердцу.
Старик потянул разом удлинившуюся руку к Степану и погладил его по голове.
- Хороший песик, - прошептал он.
И выключил свет.
Переход
Алена проснулась в пять часов утра со звоном в ушах, что подобен был звуку
тонкой лопнувшей струны. В голове тлел давешний сон, щеки были мокрыми
от слез.
«Что он сказал? Что он успел сказать?»
Ускользающий образ Андрея, слова, вызвавшие горе и страх. Там, в тумане
сновидения, она стояла в коридоре, глядя прямо перед собой. Узкий темный
коридор - словно Андрей перебрался из своего новостроя в унылую
коммуналку; низкие потолки, под ногами стершийся линолеум. Андрей стоял
прямо перед ней, крепко держал ее за плечи, глаза в глаза изливал вязкую
тьму.
«Господи, что же он сказал?»
У ног ее чемодан и сумка, как будто бы она только приехала или…уезжает. И
еще, там был кот. Жирный рыжий кот юлил между ногами, гладкими боками
отирался подле нее. От него веяло гнойным теплом, тельце было раздуто от
газов. Желание раздавить голову коту, каблуком пронзить тусклый его тупой
глаз, почувствовать, как вялая жизнь вытекает из ноздрей его… чувство
незамутненной ненависти… нет… брезгливости, как если бы она коснулась
босой ногой плевка.
«Что он сказал?»
Омерзение и скорбь… За спиною Андрея стеклянная дверь комнаты… Сквозь
загаженное стекло видны беспорядочной грудой наваленные матрасы, стеганые
одеяла, хлам. По стеклу червем ползет трещина - мусор, наполняющий
комнату, выдавливает себя наружу.
Скорбь.
Вот, что он сказал:
«Солнышко, мама умерла. Она умерла, любимая… Мамы больше нет».
И окончательность этой фразы, гвоздем ударила в лоб, наполнила ее дикой
болью, и…
Смерть.
Алена почувствовала, что все еще плачет. Ощущение утраты было бритвенно
острым.
Нужно позвонить Андрею. Узнать, все ли в порядке. Господи, все ведь в
порядке, верно?
С дразнящей ясностью она поняла, что смерть собственной матери не вызвала
бы у нее подобной скорби.
Я слишком сильно его люблю. Все, что связано с ним, люблю. Он мой.