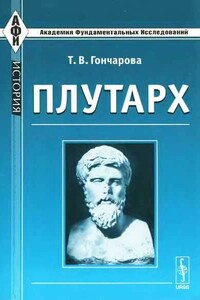Гости были зэки, отсидевшие вместе с героем дня и уже освободившиеся. И ехали они на свадьбу со всех концов страны, и каждый вез к столу что мог, а, кроме того, еще и сверток с заветным подарком для молодых, но что это был за подарок – об этом скажу потом.
А были то недавние зэки, великое племя, меченное тавром неволи и оттого исполненное веселой ярости сопротивления. Однако неискушенный глаз мог и не увидеть невидимое тавро, искушенный же увидал бы сразу. («Сколько лет на хозяина работал?» – пароль, брошенный заключенным бывшему, встреченному в автобусе, в чужом дворе или у ларька. – «Ну, десять, а что?»)
Гости были брежневского призыва, и призыв этот отличался от сталинского, людоедских времен. Они были в массе своей дерзки, хребты им не переломили, и почти все имели шанс и надежду выжить несмотря ни на что. А смотреть было на что – и незримо тянулся за ними след тьмы, серого небытия неволи, терзаний унижаемой плоти и липких щупальцев, протянутых к душе. Но как категорично они гнали прочь призрак лагерной преисподней жестким оскалом улыбки, готовностью любой ужас или мерзость, ряженные в полосатую робу арестанта, уничтожить, расстрелять смехом, иронией, шуткой!
За что отсидели они свои годы? За преступления против политического режима, истинные и мнимые, за действия, за жесты, свершенные или нет. За смутные раздумья, за размышления, рожденные бессонными ночами рядом с опасным собеседником – радиоприемником, вещавшим сквозь грохот и вой глушилок голосами Америки и Англии о событиях нашей жизни. Эти смутные раздумья и размышления, успевшие или не успевшие сформироваться в четкую мысль, в переводе на языки мира звучали так: «Пронило что-то в Датском королевстве». (Помню – против этой шекспировой цитаты в моем журнальном тексте о театре редактор на полях написал «Намек снять!» И ведь прав был, прав, намек имел место, мы же изучали эзопов язык и порою, как ученики низших ступеней, бывали неуклюжи, и бормотали по‐эсперантски «моя‐твоя не понимай», когда нас хватали за робкую руку.)
А этих схватили за руку по‐настоящему, и они были зэки, бывшие заключенные, ныне вольные – и все‐таки зэки.
О чем можно было и не догадаться или даже забыть в застолье: свадебные гости, белые рубашки, шум и гам острот, но, может быть, избыточная раскованность жестов.
Застолье продолжалось, оно сложилось и имело свой строй и свой внутренний закон, чередующий восклицания, пожелания и воспоминания. Смех венчал каждый помянутый лагерный эпизод, и его с удовольствием рассказывали заново.
Вспомнили того незадачливого еврея, который срок получил за то, что продал американцам теорему Пифагора, разгласил, как по теореме этой высоту определять – секрет государственного значения.
Вспомнили эстонца‐кондитера: изучив его личное дело, лагерное начальство вызвало его и спросило, правда ли, что есть такая булка, торт называется, а если правда – может ли он, кондитер-эстонец, изготовить для них, начальников, такую диковинную булку и что для этого нужно. Кондитер со своей профессиональной добросовестностью и эстонской обстоятельностью составил список необходимых продуктов: сливки, ваниль, миндаль двух видов, горький и сладкий, и все прочее, более тридцати наименований. Начальники обозлились – ты что, издеваешься, в карцер захотел? А в карцере пустая баланда с гнилой картофелиной, хлюпающей в крупяной жиже, – и та под вопросом.
Но вот и не для начальников, а для лагерников, самых настоящих, русский народный умелец Алик Гинзбург умудрился сотворить мороженое, мне о нем рассказывали подробно, но не запомнила я этой рецептуры, помню лишь технические подробности: литровая банка и резинка от трусов, Алик банку крутил, как пращу. Это тоже вспомнили за столом. Стол вообще располагал к продуктовым мемуарам, кстати, вспомнили и буханку Бориса Здоровца, хотя она в конце концов продуктом уже не являлась. Потому что Здоровец, баптист из Харькова, жестоко травил надзирателей, прикинулся, что спрятал в хлеб тайное и, конечно, крамольное письмо, может быть, баптистский текст или иную антисоветчину, а сам хлеб высушил до состояния кирпича. То‐то было развлеченья, когда неусыпные стражи порядка тот кирпич пытались раскрошить. Этот баптист решительно не обладал ангельским смирением. Напротив. Когда какой-то начальник из Москвы посетил барак (высокая ревизия!), Здоровец так и сидел за штопкой носка не шелохнувшись. Спросил начальник, почему он не встает, а тот ему: «Вот когда вы меня отсюда выпустите, тогда и поговорим о манерах». Озлился начальник: «Да я тебя… тогда выпущу, когда тебя, баптиста поганого, поп обратно будет крестить в православную веру!»