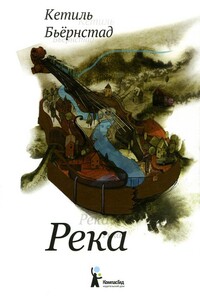— Кто здесь? — снова кричу я.
Наконец что-то словно силой освобождается от пут.
И не во мне, это исходит снаружи. Я не готов к этому. Это похоже на судороги. С трудом ловя воздух, я бегом поднимаюсь наверх, в гостиную.
Там тоже никого.
Я падаю на диванчик Ле Корбюзье. Сердце бьется как бешеное. В висках стучит. Мне нужно чем-то заполнить комнату. Рахманинов. Мой сон. Второй фортепианный концерт. Колоннада октав в начале. Аккорды в фа миноре, моделирующие в до минор. Мне следовало это понять. Траурная песнь для рояля и струнных. На темном замутненном фоне композитор широким мазком пишет свою картину. Вот где я смогу скрыться от своего чувства вины. В этих подводных течениях. Я подхожу к шкафу с пластинками и достаю этот концерт. Играет Рихтер, дирижирует Вислоцкий, Варшавский филармонический оркестр. Траурная песнь, не имеющая конца, она разрывает путы концерта благодаря тому, что стала такой знаменитой, что ее темы слишком хорошо известны. Но разве нельзя играть то, что уже известно? Неужели то, что когда-то было признано и заиграно, затерто собственной славой, потеряло свою ценность? Я много лет знаю этот концерт, но давно не слушал его. И вот, сегодня ночью он мне необходим. Рахманинов в доме Скууга. Наконец я понимаю, что потерял. Их больше нет. Ни Ани, ни Марианне. Марианне больше не сидит на диване рядом со мной. Нет ее и между деревьями. Впервые она исчезла. Совсем исчезла. Навсегда. Аня тоже. Ее больше нет. Впервые я пытаюсь осознать, что больше никогда их не увижу.
Я всячески охраняю свое одиночество. Это не так трудно, люди инстинктивно сторонятся тех, кто скорбит. Габриель и Жанетте неохотно на время отпускают меня. Моя трагедия столь велика, что люди отходят от меня со вздохом облегчения. Даже В. Гуде ограничивается телефонным разговором.
— Тебе надо время, чтобы свыкнуться с этим, мой мальчик, давай назначим встречу на начало осени, — говорит он.
Сельма Люнге присылает письмо, в котором уверяет меня, что каждый день думает обо мне, но они с Турфинном уезжают в Германию и вернутся только к сентябрю. Слава богу, никто из них не знает о моей попытке покончить жизнь самоубийством. В их глазах я по-прежнему талантливый пианист, у которого хватит сил, чтобы преодолеть свое горе. Они верят, что вскоре я начну думать о будущем. Но я думаю только о том, что осталось в прошлом. Как будто стрелки часов остановились в тот вечер, когда я дебютировал, в ту минуту, когда повесилась Марианне. Все, что произошло потом, не имеет отношения к жизни.
По крутой тропинке я спускаюсь к реке. Я вернулся в ольшаник. В тот, который долгое время принадлежал только мне, а потом стал принадлежать мне и Марианне. По-моему, все это жаркое светлое лето я провожу в ольшанике. Мне никто не мешает. Есть только я, листья, деревья и страшные картины перед глазами: мама за секунду до того, как она скрылась в водопаде. Аня, когда она уже похудела, а я еще не понял, что она серьезно больна, и понял это слишком поздно. Марианне, махнувшая мне рукой из зала, когда я сыграл на бис. Я думаю о том, что мог бы вовремя остановить их всех, если бы был умнее. И это чувство вины будет преследовать меня всю жизнь.
Но почему-то мне больно оттого, что никто из друзей Марианне ничего не знал обо мне. Неужели это означает, что я ничего для нее не значил и ни на что не мог повлиять, ничего не мог остановить и не должен поэтому ни в чем чувствовать себя виноватым?
В конце июля я снова начинаю заниматься. Начинаю с простейшего, что тем не менее является пробой сил: инвенции Баха. Потом перехожу к прелюдиям и фугам. Потом к Гольдберг-вариациям. Играю не думая. Без выражения. Без нюансов. Без чувств.
Так лучше.
На Брюнколлен с Ребеккой Фрост
В начале августа утром звонит телефон. Голос Ребекки. Я сразу понимаю, что что-то случилось.
— У тебя есть время пройтись со мной? Лучше, если мы поговорим на ходу, а то непременно угодим в постель.
— Как я понимаю, ты слишком высокого мнения обо мне как о вдовце.
— А как же иначе? Ты рыцарь всех женщин, попавших в беду. Разве вас с Марианне объединило не общее горе?