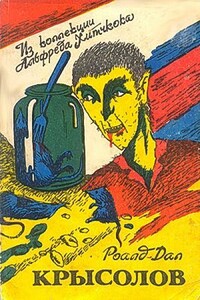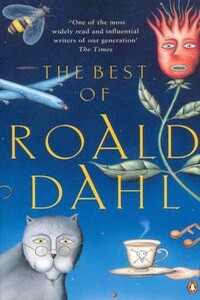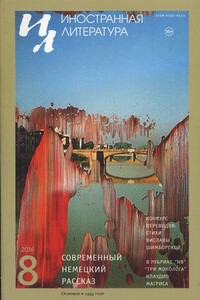О ней говорить трудно, потому что, да вот, - больно, потому что надо тогда входить в разбирательства со временем, заставляя себя понимать, почему всё. Она была единственная, оказавшаяся среди нас как бы авансом, по стечению обстоятельств - в своей баден-баденской ипостаси она тянула лишь на то, чтобы оказаться одним из Диксоновых завсегдатаев, задвинутым его постояльцем, краем уха участвующим в наших разборках. И не были, конечно, происшедшие с ней перемены целью и результатом наших сборищ: мы бы расстались, как только она стала Нюшкой, а не провели бы вместе три этих года, вспоминать которые больно и почти однажды, и за которые, поди, нам потом зачтется жизнь, если отыщется, перед кем отвечать. Что, собственно, уже не важно.
Баден-Баденский период ее окончился довольно быстро, и не от разговорчиков наших, и уж, конечно, не от лежания головой на коленях Эсквайра, а сам собой, и очень кстати, потому что если бы не это - ничего бы с нами не произошло. Потому что мы боялись: это как поднырнуть под завал на реке - течение вынесет, сила, тебя движущая, вынесет, а не дашь себя ей на волю, опасаясь, - ты же будешь пуст, весь в ее власти: страшно. А у нее был этот долговременный задвиг, очень постоянная точка зрения, и с этой прочной и дикой позиции ей удалось обучиться ощущать каждодневные, выбивающие из привычного самочувствия толчки и тумаки не разрозненно, а, по мере их учащения (а куда денешься, конечно, учащения, с каждым годом все плотнее), что они не то-так-то-эдак, а одного течения, одной реки, на которой можно ехать верхом. И ей, Нюшке, сил поэтому не хватить не могло, все возможные были в ее распоряжении, которыми она наделяла всех остальных. Не забывая нас и теперь, когда нас давным-давно нет всех вместе - хотя мы и рядом, и встречаемся постоянно: куда же нам разбежаться в нашем малолюдном городском кругу, вот только боюсь, придут все не одни, желая приобщить новых друзей к былым радостям: нет, конечно, не придет никто.
Невозможно. Мы зачем-то были вместе, что-то вместе делали, нам было счастливо, что, собственно, дело десятое; потом это - неведомое нам созрело и отвалилось, как августовская слива; мы давно уже про все забыли, в конце концов человек наполовину состоит из воды, что обеспечивает быстрое обновление всего организма и памяти. Но встреться мне на улице Нюшка (зовут в миру которую, конечно, совершенно иначе), мы будем с ней обниматься, самозабвенно и нежно, и целовать друг друга в губы и глаза, а только все кончилось, тяжесть исчезла, воздух сделался пуст и безвиден. А точнее - стал другим.
Но был еще Эсквайр. Средой его обитания (он, кстати сказать, муж Сен-Жермен) была легендарная темная комната, в которой происходит ловля черной кошки, там, возможно, отсутствующей. Кошку-то мы не ловили, кошку бы мы позвали, и она бы примурлыкала к нам сама. Другое: пройти по диагонали из угла в угол в этой комнате невозможно. Там в центре какая-то штуковина темно-неосвещенного цвета: какой-то черный алмазный конус, гладкий настолько, что ощупать его, не потеряв при этом ориентации, нельзя. Если же не ощупывать, а идти, старательно выдерживая направление из угла в угол по диагонали, то препятствия идущий не ощутит (форма его, впрочем, не установлена точно: кажется - конус, а может быть что-то сложнее, или эта штука меняет форму, оставаясь, однако, гладкой и темной - либо совершенно прозрачной), ничего не ощутит, но начнет отворачивать в сторону соприкоснувшись со скользкой поверхностью того, что в центре: разворачивающее плечо почти ласковое противодействие, которое кайф ощущать; плечо опирается на препятствие, препятствием как бы и не являющееся: идущий продолжает идти по прямой в свой назначенный угол и, минуя в своем прямом движении эту область, вдруг ощущает отсутствие противодействия, момент отрыва, что отзывается в нем удовольствием от частичной потери веса, почти чувством парения и, да что же это я разъобъяснять-то затеял?!
Ну ладно. Сей интерьерчик он как бы приволакивал на горбу к Диксону, когда наступал его черед водить. Богом Эсквайр служил не часто, раз в два месяца, даже реже, а всего - раз семь-восемь, кажется, за все наше время. Все, как сквозь рентгенкабинет, проходили сквозь это помещение, задерживаясь неизвестное время внутри. Потом никто никому ничего не мог рассказать. И у другого не спрашивал. О чем, собственно? Все это было не сахар: никто не сможет сказать, сколько был внутри и что понял, пытаясь сладить с этим веществом, разобраться, что оно такое там стоит: как вспоминание сна, себя, въезжание во что-то абсолютно непроходимое и нежно ускользающее. Там совмещение наступало, а оставались: нелепая, казавшаяся там ключом опытный, понимаешь, что все уйдет, строить зацепку - но совершенно дебильная фраза рода "дыр, бул, щир", а казалось, всё из нее наяву размотаешь. Или картинка - тоже почти ничего не сохранявшая на поверхности. Вот оно, вот что? Как мы потом расходились: поодиночке или вместе, во сколько, куда? Потом мы встречались недели через две, не раньше.