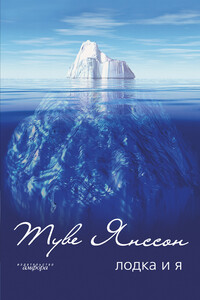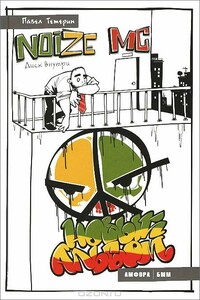Сен-Жермен. Самый загадочный персонаж наших взаимодействий. Окрещенная вначале Диксоном как Сен-Жермен-де-Лямермур по причине своего надменного вида и шикарной наглости, одевающаяся всегда, как в оперу или на прием в посольство, через месяц она благополучно утеряла скептическое де-Лямермур, ничего ему соответствующего в ней не оказалось. Ну, скажем, дома ее могло, конечно, отражать зеркало с золотой амальгамой, но никак уж не в золотенькой багетной раме.
Если попытаться взглянуть на нее отвлеченно и как бы со стороны и объективно, то в обиходном общении она была человеком весьма неприятным. Вряд ли ее можно было расстроить или растрогать. Она была красива, поэтому вокруг нее - в прочей жизни - ковылял хоровод мужиков разных достоинств, трудно сказать, как она с ними разбиралась; в семье проблем не было, взрослый сын, муж, с которым она ладила. Всех троих можно было часто встретить в концертах (короткий кивок, проходит мимо), но дома-то она была у нас, и бедные домогатели, поди, совершали групповые самоубийства, будучи не в силах постичь логику ее душевных движений. А и как им было понять, если весь мир в ее исполнении превращался в игру, да не безобидненькую - все предметы и связи наделялись ее смыслом: как, скажем, у ребенка: камень то ли зверь, то ли приятель, то ли грузовик, то ли небо. А Сен-Жермен осуществляла такие штучки не в частном, но в разделяемом с другими мире, который по ее мелкой прихоти шустро преобразовывался, да не надуманно: все это в нем, оказывалось, и было - все эти несуразные связи, когда произвольный разговор или действие вдруг хотят заполнить собой половину универсума, заставляя остальных - доводя которых в результате до нервного истощения - припомнить и всех своих прабабушек, и Адама, и что ел на завтрак, и Шкловского в бане, и как впервые узнал о смерти. Куда же ей было идти с такими склонностями, как не к нам - не могла же она обучать этому сына, тот, пожалуй, и спятил бы, не разобравшись между такой мамой и всеобщим средним.
Здесь нет примера, потому что нет того воздуха и нет Сен-Жермен. Все это не излагалось, игралось, что же до ее манер, то: "Как это не могу?" Сен-Жермен Диксону (встать на голову). Диксон требует доказательств. "Мальчик, молодой человек!" - Сен-Жермен в сторону анфилад. "Да, вот вы, неумыточек, будьте добры". "А?" "Вы могли бы встать на голову?" "Мог бы". "Встаньте, пожалуйста". Встает. "Спасибо". "А при чем тут ты?" - Диксон. "А сигареты под диван заехали, - Сен-Жермен Диксону, - ты искал только что". Сигареты, точно, лежали под диваном. Такой театр.
Трудно быть уверенным, но, похоже, мир она видела столь остро, что если принять во внимание и постоянную практику подобного рода, и уникальное чутье...
Если, скажем, пойти дальше Сен-Жермен, сделать угол зрения еще острей, раздробить вещество на совершенно уже неаппетитные отдельные песчинки и, не теряя ни резкости, ни зернистости изображения, вернуть вкус на место, повернув винт настройки на четверть оборота обратно: увидев, как бы обнаружив себя на лужайке еще абстрактной, но уже неравномерной материи, ходя по которой можно ощупывать эти сгустки: брать в руки, подносить к глазам: волнушка, рубль, яхонт - и, при этом разглядывании, вернуть винт еще на оборот обратно: этот сгусток, вызывающий те или иные чувства, обладающий таким-то цветом, вкусом, запахом и звуком, делается в мире реальном, то есть привычном, комбинацией его частей: чаем с килькой, кошкой под дождем, текстом, Брежневым на белом коне, пером в бок. И таким вот сочленением штучек и занималась эмпирически Сен-Жермен.
Что роднило ее с Баден-Баденом, то есть уже не с ним, а с Нюшкой. Но, в отличие от Сен-Жермен, в коей эти тонкие качества были выработаны шестнадцатью поколениями предков, Нюшка была городской дворняжкой, от природы с мгновенным врубом в любую ситуацию и нюхом на все вокруг: не изобретала, не составляла, а, распознавая, присоединялась - на благо ситуации. В компании от нее было светло и легко и, ох, сколько вокруг было воздуха, когда Нюшка была нашим богом - это был божок весенний, начинался свирепый апрельский раздерг; божок о ста руках, в которых ничего не зажато, с легкой кислинкой во рту от железного леденца; она была как бы напичкана ангелами, которые вырывались из нее при каждом ее жесте или улыбке.