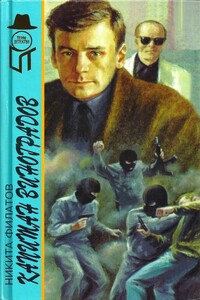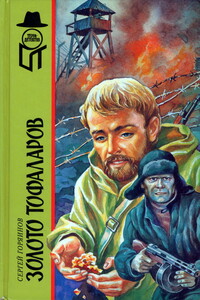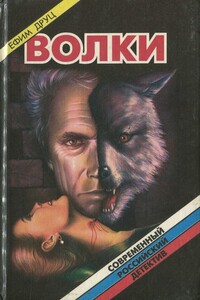Граф усмехнулся:
— Любите шахматы?
— Играла когда-то… Ты, Минта, — сказала она цыганке, — пойди-ка чайку завари.
— Мне бы кофе, — вымолвил Граф.
— Сделаем, золотой.
Минта вышла. Старуха легко поднялась, пошла к комоду, достала из его недр связку писем.
— Сам решай, интересны ли.
Граф осторожно взял письма.
— Прочту.
— Читай, разбирайся. И малых не презирай. Твоя власть — не власть. В оболочке — труха. Радуйся малому.
Вошла Минта с чаем и кофе.
— Могу иногда приходить? — спросил Граф.
— Навещай, коли время найдешь. — Старуха помедлила. — О тебе я знаю и то, чего ты не знаешь. Прадед твой в Россию табор привел из самой Испании. Сильным цыганом был, страха не знал… Говорят, уходя в дальний путь, просил о милости Сару Кали. Долго молил, прежде чем табор поднять.
Старуха явно разволновалась. Слезы побежали по морщинам ее лица. Она вещала или молилась на свой абажур.
— Милостивый, всемогущий Дэвла! Обрати свои очи на чернокудрых цыган, сделай так, чтобы не по могилам шли, сохрани детей их, жен их. Пусть всегда живут заново, покидая земли для новых земель, пусть не видит их злоба гадже. — Махнув сморщенной темной рукой, старуха вернулась в реальность. — Письма прочтешь, узнаешь кое-что о себе. Они твоей матерью писаны. Понял?.. Ты не пошел к барону, — старуха взглянула пронизывающе, — а это отец твой. Иди говори с ним… Или ты будешь с отцом воевать?
— Боже мой! — сказал Граф.
Он не мог найти других слои и повторял: «Боже мой, Боже мой, Боже…»
Но что-то восстало в нем. Он ощутил удушье гнева. Судьбе охота его сломать?..
— Ты знала, Минта? — спросил он, вскипев. — Барон в курсе дела?
Он говорил в пустоту. Старуха будто уснула, осев в своем кресле. Минта же, опустив ресницы, гремела посудой, будто со зла.
Граф резко встал. Ушел, не простившись.
Вторые сутки Нож пил один и в компании. Но не пьянел. Уже точно знал, что подписан ему приговор и от цыганской разборки ему не уйти. Дел кровной мести рома из виду не упускают, будь то хоть в поле, хоть в городе. Вся родня Кнута уже в Москве.
Водку Нож пил стаканами, не по-цыгански, а утопить страх в стакане не получалось. Душа дрожала.
Одна надежда — на Графа; Граф обещал прикрыть — если что. Но и Граф как пропал. Облажался с этой гитарой и путает след. В силе волчий закон: «Умри ты сегодня, а я завтра». Но ни сегодня, ни завтра Нож не хотел загибаться. Жить ему нравилось. Ему нравилось видеть ужас в глазах фраеров и силой брать деньги, вещи и баб. Он был дитя уголовщины, круто замешенной на насилии. И не на что ему было оглядываться: отец сгинул в лагере, родичей он не знал, они затерялись по таборам, кочевавшим где-то в Сибири… Но до сих пор он мог всегда укрыться у здешних цыган. Теперь же боялся их больше, чем оперов. Пролил кровь лабуха — и горит.
Собутыльники бесконечно базарили. Их голоса шли к Ножу, как сквозь вату. И все об одном. «Разве это цыгане! Да их бы старинные рома и на выстрел не подпустили». — «Дед говорил, к цыганам в хоры цари приезжали, князья да купцы-миллионщики, бриллианты дарили, золото сыпали под ноги…» — «А пели как! Ныне так петь не могут!» — «Городские и на рома не похожи…» — «А в таборах еще держат старый закон…»
— Мы-то кто? — спрашивал Нож, подняв зачумевшую голову.
— Мы-то? — засмеялись в ответ. — Мы — загумленные!
Точно. Граф его обротал, как двухгодовалого жеребенка. Кто-то свел их в шашлычной. Граф пива поставил. После недолгих заходов спросил прямо в лоб: «Ловэ нужны, старина?» — «Кому не нужны?»
Граф немедля выдернул из своего большого лопатника>[53] ровно три сотни баксов, шлепнул на влажный стол: «Держи, морэ. Отдашь, когда будут!» «Заработаю, — сказал Нож, — будь спокоен». У Графа уже на него досье тогда было, знал: Нож с азартом ходит и на мокрые дела.
После Граф двое суток таскал Ножа за собой по кабакам, от гостиницы «Советской» до «Невы» и «Арагви», оттуда — по частным квартирам гадже, и Нож восхищался: «Вот ром! Настоящий!» Денег Граф не считал.
В конце загула они оказались на хате у женщин, украшенных кольцами и ожерельями, как новогодние елки. Тут Нож как будто в клетку попал, почуял: дело не просто. Граф себя вел как артист цыганского театра. Он давил понт