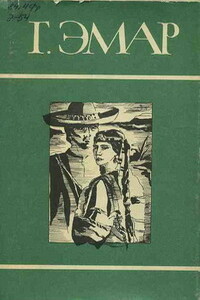— Э-эх!… — крикнул было Калистрат Ефимыч. От кровати отскочил, схватил ее за плечо, подвел к дверям — нет сил, не толкает, а ползет по телу рука, к грудям, к спине — кусковатой и тугой.
Истомленно выговорил:
— Уйди!
Заходило под рукой ее тело. Ноет и молит тело, к ногам подбирается, к крови.
— Ефимыч… о-о-о!… Ефи-и…
— А нет!…
Кверху руки и грудью толкнул ее в голую и размякшую грудь.
— Поди-и!…
Взвыла дверь. Холодом на язык, на глаза его пахнуло из сеней. Осел он вялым, одряхлевшим телом на кровать. А по шее и за ушами — липкий, пахучий пот.
У дверей в горницу, загораживая ручку, — Агриппина. Лица не видно, но выкидывает оно острый дух самогона.
Толкая холодными, тонкими, как сосульки, пальцами голое тело Феклы, закричала:
— Бегаешь! Попалась! На меня кричала. Я девка — я могу!… Я завсегда за себя отвечу.
Тек через щель по телу сухой холод. Розовая кружилась в щели пыль. Пахло куделей, мхом. Толкалась, как слепая, Фекла:
— Пусти, Гриппинушка, пусти…
Пьяным, охрипшим самогоном кричала дверь:
— Пусти? Проси сильней, стерва, проси! Я, по-твоему, — шлюха, а ты — мужняя жена?… Снохачеством занимаешься!… Я вижу… я все вижу!
И вдруг тычком, локтем ударила Фекла в бок Агриппину. Отшатнулась. Ворвалась в избу Фекла, заревела визгливо:
— Сам он, мамонька, сам!… Рубаху сорвал, опоганить хотел!… Опозорить, матушки!…
Бороздя ногами половики, догнала ее в горнице Агриппина. Сорвала клетчатый темный платок, высоко подымая руки, подскочила к Фекле. Встряхивая острой, сухой челюстью, заволочила пьяные слова:
— Я — паскуда?… Я, честная, я богу за вас всех молилась. Я тебе… негоднице!…
И сна, вяло ударяя рукой в воздух, поймала волосы Феклы в пальцы. Поймала, дернула, взвизгнув, вцепилась в них руками, а зубами в плечо.
Повалилась Фекла на половик и, дико вскидывая вверх ноги, завыла:
— А-а-а!…
Пришел Дмитрий. Остановился у порога, поглядел на дерущихся баб и хрипло захохотал.
Ветер желтый, с запахами от падающих листьев несся вверх по пади. Ночью густой туго падал с белого, как олений мох, неба.
На Лисью заимку привезли выкраденные в городе слесарные станки. Поставили их в баню — темную и тяжелую, точно ржавый кусок железа. Завизжала сталь. Запахло гарью.
Слесаря приехали из деревни. Были у них не обгоревшие от стали мягко-мускульные щеки, и к станкам они подошли, точно к норовистой лошади.
Приготовляли бомбы. Вокруг бани молчаливо ждали мужики. Двор был тесно набит ими. Как тугой пояс на теле, гудели, потрескивали заплоты. Пахло пылью, потом далеких дорог.
Вышел Никитин. Желтое солнце лежало на его острых скулах, темных, подгоревших глазах. К первому станку. Схватил бомбу, развертел капсюль, сосчитал:
— Раз, два, три!
И бросил за баню в крапиву. Ухнула, завизжала, зашипела крапива. Свистнул, лопаясь, пень.
Ко второму станку. Так же резко и немного присвистывая:
— Раз, два, три!
И опять за баню. Еще гуще загудела земля.
К третьему станку. Бледный, с мокрым подбородком, стоял слесарь. Когда брал Никитин бомбу, слесарь зажмурился и вдруг от лба к подбородку покрылся потом. Порозовело лицо.
Разорвалась бомба.
К четвертому. Слесарь тонкий, с девичьим розовым лицом, весело улыбаясь, подал бомбу. Царапнул железный капсюль.
Кругло метнулась рука, и круглые взметнулись слова:
— Раз, два, три!
Молчит крапива. Несет из-за бани порохом, землей.
Никитин схватил другую бомбу, кинул. Подождали. Уже не порох пахнет — земля густая, по-осеннему распухшая.
Никитин кинул третью бомбу. Ничего.
Шумно, как стадо коров от волка, колыхнулись и дохнули мужики.
— Ы-ы-х… ты-ты!…
Никитин, вытянув руку, взял винтовку. Резко, немного присвистывая в зубах, сказал:
— Становись.
Слесарь с девичьими, пухлыми губами мелко закрестился. Подошел к банной стене.
Никитин приподнял фуражку с бровей, приложился и выстрелил.