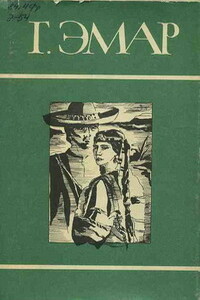Семен сидел на лавке, тупо водил глазами по широким белым хлебам,
— Не пускат! — обозленно сказал он.
Фекла взмахнула выпачканной в муке лопатой и сказала жарким, сыпучим голосом:
— Пищишь тут под руку!… Все к бабе да к бабе!… Без бабы ничего не знат. Прости ты меня, мать пресвятая богородица! Дай хоть мягки-то посадить.
— Сади! — остыло выговорил Семен. — Я так…
— Да иди ты на пригон, чо в кути-то торчишь! — закричала Фекла. — Братец-то вечно пьяный.
Семен, передернул плечом, вяло сплюнул в носок сапога. Не попал и плюнул еще. Фекла бросила лопату за печку, сердито оборачиваясь к Семену:
— Уйди ты, ради бога.
Семен пододвинулся за стол, потрогал пальцем хлебы.
— Неделю уже ни одного убогова не было. Не пускат. Матерится ишшо. И чо деять, не знаю?…
— Не знаю, не знаю! Да ты мужик или чо? Я за тебя должна знать?
— Настасья, надо быть, сказала ему, вот и не пушшат. Дескать, берем поборы с люда, а с ней не делимся. Завидно суке!
Фекла, хлопнув себя по ляжкам, нетерпеливо сказала:
— Ну, и ступай к ней!… Моченьки с вами нет. Один день-деньской пьет, другой — сосунок, третья — потаскуха!
Семен, встряхивая волосы, поднялся. Прихрамывая, достал с полатей шапку. На голбце проснулась Устинья и, всхлипывая, проговорила:
— Семушка, какой ноне день-то?
Фекла закричала из-за печи:
— Лежи, ради Христа! Вот смертоньки-то на кого нету!
Старуха, вязко перебирая мокрыми губами, заплакала. Семен перекрестился, вышел.
Фекла, посадив хлебы, подмела шесток. Прикрыла заслонкой печь. Спуская засученные рукава, прошла в горницу.
На плетенном из лоскутьев половике лежал слетевший с цветка желтый лист. Фекла, расстегивая кофту, подняла лист, положила на подоконник.
Стянула с себя кофту и юбку. Достала из сундука чистую рубаху, переоделась. Вытерла полотенцем под мышками и под туго поднявшимися грудями. Пригладив волосы, проговорила недовольно:
— И тут мне… Вечно сама… Вечно самой улаживать. Прости ты меня, владычица и богородица! Грешишь!
Натянув на рубаху азям, вышла босая в сени. По голым, подпрыгивающим икрам ее потянуло со двора холодком. Грубый азям щекотал вспенившееся пупырышками тело.
Фекла, высунув голову в дверь, оглядела двор.
Гоготал, гоняясь за курицей, рыжехвостый петух Ветер гонял раскиданную по двору солому. Под навесом лаяла в угол, на крысу должно быть, собачонка.
Нет штоб двор подмести!
Она затянула не закрывавший груди азям, подошла к двери кельи Калистрата Ефимыча.
Мягко, торопливо прерывая дыханье, билось в груди широкое сердце… Фекла, перекрестившись мелко, — дернула дверь…
Калистрат Ефимыч лежал на кровати головой к дверям. Большие, заросшие синим волосом руки тоже на подушке. Похоже было — лежали три волосатые головы.
— Чего там? — не оборачиваясь, снизкоголосил он.
Фекла кашлянула и зябко ответила:
— А я это, Листрат Ефимыч…
— Ну?
Калистрат Ефимыч убрал руки с подушки, протянул их вдоль тела.
Пахла келья мужицким духом. Розовато-синее трепетало окно.
— Ты чего? — переспросил Калистрат Ефимыч, спуская ноги и оборачиваясь.
Фекла шагнула к кровати. Калистрат Ефимыч посмотрел на ее зардевшееся лицо. Фекла поглядела на его руки, дернула завязку азяма.
И вдруг сразу увидал Калистрат Ефимыч раздвинувшие рубаху крепкие груди.
Всполоснулось остро под горлом. Проглотил слюну. И точно от слюны той распустилось по телу острое, теплое и томящее…
— Зачем ты?… — мелея голосом, сказал он.
Еще шагнула Фекла. Скинула плечом рубаху. Тело желтовато-розовое, в пупырышках от холода, и все тугое, как грудь. Запахло вязко бабьим телом.
Жарко в келье, в голове жарко, а горло как деревянное, липнет по нему слюна. Руку — на лицо, на колено свое положил — большое жаркое колено. И сердце теплое, огромное, как эта баба.
А кровь прибывала, прибывала. Голова — сплошное кровяное пятно. Руки жмутся: “Может, уйдет”. Ноги к кровати до боли прижимаются.
Натянулись жилы, заныли руки. Сердце заныло.
А Фекла глядит на ноги его. Лицо у ней мокрое, скачут губы, бормочат неодолимые слова:
— Листрат… Ефимыч… любо ведь?… Сенька-то, он… щука!… Давно… к тебе, Ефимыч!…
Сбились волосы на глаза. Совсем осела она на кровать.