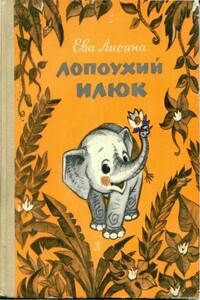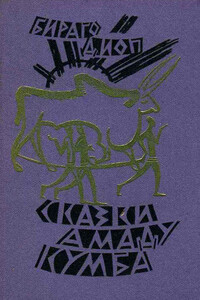— Ну, а если все помнишь, то где же хвост, то бишь палка? Что седлать-то будешь?..
— Пожалуй, верно, хвоста нет…
— Ага! — победно воскликнула Ципили. — Так кто же ненормальный?.. Погоди, я покажу тебе, какая я ненормальная… Обзываешься, а сама простых вещей не помнишь.
И она кинулась искать подходящую палку. Долго шарила под кустами, наконец нашла то, что надо.
— Давай, — сказала Тимбака.
— Не дам. Это ведь я нашла.
— Ну и что ж, что ты нашла. Помело и будет твоим. Просто одолжишь мне его, я слетаю на лужайку за своим, а вернусь, отдам тебе, зачем мне два-то?..
Подумала, подумала Ципили — не дай, так ведь не отвяжется — и согласилась.
— Ладно, бери. Только вернешь мне обязательно это помело, твоего я не хочу, оно старое.
Тимбака, дрожа от злости, кое-как приладила палку, хорошенько привязала ее и, оседлав помело, громко прокричала:
— Амда-чамда кумайни. Лети, лети, э-эй!
Но, увы… Помело не взлетело.
— Ну, что же это? — подталкивая помело, удивилась Тимбака. — Лети, слышишь, лети, амда-чамда, эй!
Никакого движения. Как стояла, оседлав помело, так и стоит, ни на метр не стронувшись с места.
— Дай-ка, дай-ка мне, — сердито потребовала Ципили. — Не умеешь, так не берись… И взлететь-то не можешь, а еще хвастаешься, что мертвые петли делала.
— Не умеешь. Не летит, значит, не съел.
— Что не съел?
— Нет, я сойду с ума! Медведь не съел Мануш, понимаешь?!
— А вот и съел! Просто ты не умеешь летать! — огрызнулась Ципили, выхватывая у Тимбаки помело. — Гляди, как надо.
Но и она не смогла взлететь.
Ворон пролетел совсем близко, почти коснувшись Ципили, покружил над медвежьей избушкой и опять качнулся к колдуньям, что-то громко и быстро-быстро прокаркав у них над ухом.
— Что он хочет? — спросила Тимбака.
— Да так. Дровосек совсем помешался! — махнула рукой Ципили и, подергав под собой помело, во весь голос закричала: — Э-эй, лети, мое помело! Лети, амда-чамда кумайни!..
Но и на этот раз ведьма на помеле не тронулась с места.
Ципили еще не успела опомниться от изумления, как Ворон опять, тронув ее крылом, сделал круг над головой колдуньи.
— Проклятый ворон! Повезло тебе, что я лишена своей колдовской силы, не то обернула бы тебя жабой!
Бедный Ворон! Мало ему злополучной вороньей доли, еще и жабой пришлось бы стать!
Увлеченные спорами и сварой старух-колдуний, мы совсем забыли про Ворона. А он, с того момента, когда старухи послали Мануш к Медведю, сидел на макушке дуба и неотрывно следил, что там делается, у Медведя. Ведь от этого зависело все дальнейшее… Такого случая второй раз не скоро дождешься. Не дай бог что-нибудь вдруг помешает. Дело, конечно, задумано злое, да что поделаешь?.. Дома дети, жена, больной брат…
Ворон изредка летал на свой двор. Сядет на плетень, наблюдает за дорогими сердцу родичами и каркает, каркает, вкладывая в это карканье все свои чувства, всю любовь к близким и всю печаль. Жена очень постарела. Работает от зари до зари, чтобы свести концы с концами.
Представляете, сидит на плетне ворон, необыкновенный ворон, который знает, что он не ворон, но обречен быть им вечно! Сидит и видит, как тяжело его родным, а помочь ничем не может и сказать им ничего не может. Вместо ласковых слов, которые хотелось бы сказать детям, с клюва слетает одно только карканье. Он каркает, а дети кидают в него камнями, чтоб убирался с плетня. Представляете, как можно себя при этом чувствовать?
Но хуже ему было, когда, отважившись, он однажды снова прилетел к себе во двор и увидел пустой дом, заколоченные двери и окна. Чего не придет в голову в такую минуту!.. Но, слава богу, Ворон скоро сообразил, что семья, может, перебралась в деревню, в родительский дом. Он сразу же полетел туда, увидел их и успокоился. Конечно, если бы он смирился с тем, что быть ему всегда вороном, может, и остался бы насовсем в деревне, свил бы себе гнездо где-нибудь на дереве и кормился бы на подворьях — мало ли люди выбрасывают разной пищи? Но Ворон не терял еще надежды, что вновь обретет свое человеческое обличье, и потому почти не отрывался от колдуний.
Очень несчастным был наш Ворон. И не только своей бедой несчастлив. Всякий раз, когда видел в деревне больного брата, сердце разрывалось.