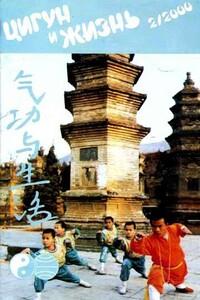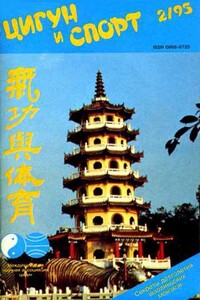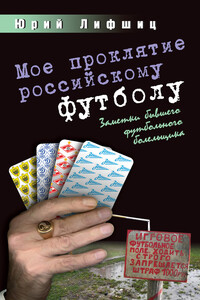В буддийских сутрах упоминаются 16 учеников Будды, которые получили покровительство Учителя, но не вошли в Нирвану, а были призваны распространять учение. Проживавший на территории современной Шри Ланки во II в. н. э. «уважаемый» Цинью в трактате «Фачжуцзи» назвал имена этих 16-ти учеников Будды и места их проживания.
После перевода трактата в эпоху Тан на китайский язык они стали почитаться всеми последователями буддизма в Китае. Число их возросло с 16-ти до 18-ти. Еще двумя архатами были объявлены сам автор трактата Цинью и его переводчик на китайский язык Сюань Цзан.
По-китайски имена этих архатов звучат следующим образом (по порядку занимаемых ими в иерархии мест):
1. Биньдулобалодошэ (Цинъю, белые волосы, длинные белые брови, за что был назван «длиннобровым»).
2. Цзяноцзяфацо (Сюань Цзан, с густыми бровями и бородой).
3. Цзяноцзябалидошэ (сидит в «позе лотоса» с босыми ногами).
4. Супиньто (сидит и читает сутры: в правой руке жезл с головой дракона, левая рука покоится на колене).
5. Нопзюло (сидит с бамбуковой тростью и руках).
6. Батоло.
7. Цзялицзя.
8. Фашэлофодоло.
9. Сюйбоцзя.
10. Митоцзя.
11. Лохоуло (единственный сын Шакьямуни).
12. Нацесина.
13. Иньцзето.
14. Фанасосы.
15. Ашидо.
16. Чжутумитоцзя.
17. Цзяе.
18. Биньтоулу.
Как гласят буддийские каноны, все 500 архатов были учениками Шакьямуни. Естественно, что такое большое количество фигур обычный храм вместить не может. В полном составе они бывают представлены в специальных помещениях крупных монастырей. Их, например, можно увидеть в пекинском храме Биюньсы, в храме Цюнчжу в Куньмине.
Из пятисот архатов, которых можно встретить в современных храмах, 498 с бритыми головами и одеты в буддистские ризы. Двое же — миряне. Это архаты под номером 295 — Аньедо (император Кан Си) и номер 360 — Чжифудэ (император Ганьлун). Их еще называют «сошедшими с неба золотыми архатами».
Интересно, что в залах архатов, кроме пятисот указанных скульптур, часто располагается выпадающая из общего строя скульптура монаха Цзигуна, которую можно встретить в проходе или под потолком. Цзигуна в миру звали Ли Синьюань. Жил он в г. Тайчжоу провинции Чжэцзян в эпоху Южная Сун. Став монахом, он получил новое имя — Даоцзи. Поначалу Даоцзи жил в монастыре Линьиньсы в г. Ханжоу, а затем перебрался в монастырь Цзинцысы. Цзигун прославился тем, что поддерживал бедных и помогал страждущим, наказывал зло и боролся с жестокостью.
>(Продолжение следует)
Гастрономические радости китайского Нового года
Пэт Гао
>(«Свободный Китай», 2000, № 1)
Если мы пробежим глазами перечень традиционных тайваньских новогодних блюд — «Золотые слитки, катящиеся в дом», «Богатство, благородство и процветание» и т. п., то убедимся, что в споре между желаемым и действительным тайваньцы с радостью отдают предпочтение первому.
Джордж Бернард Шоу как-то заметил, что «бесконечный праздник это хорошее рабочее определение для понятия «ад». Знаменитый драматург не уточнил, что имеет в виду чревоугодие, однако он вполне мог бы это сделать, если учесть, сколь склонны мы во время праздничных дней потакать прихотям своего желудка, забывая всякую умеренность в еде и питье. В обществе, подобном тайваньскому, где наличествует современная пищевая индустрия, а супермаркеты встречаются на каждом шагу, люди страдают, скорее, от избытка питания, нежели от его нехватки.
Впрочем, в прежние времена, когда Тайвань был почти исключительно сельскохозяйственным обществом, праздник Нового года по лунному календарю был далек от «адского» времяпрепровождения, он просто давал людям возможность отдохнуть и расслабиться после двенадцати месяцев изнурительного труда. Люди, чье существование напрямую зависело от капризов земли и погоды, выражали надежду на добрый урожай в наступающем году. Заодно они украшали праздничный стол разными яствами, тем самым на короткое время забывая о тяготах повседневной жизни.
Пища — естественный и выразительный символ жизненной силы. Это объясняет, почему, согласно местному обычаю, надо поместить в центре жилого помещения корзину, наполненную продуктами. Это некий залог того, что в новом году в доме не будут знать, что такое голод. Происхождение большинства традиционных новогодних кушаний связано с церемониями жертвоприношений богам и духам предков; первоначально они подавались к столу исключительно в праздничные дни. Теперь же, в эпоху круглосуточно работающих супермаркетов и современного аграрного производства, эти некогда редкие деликатесы доступны в любое время года.