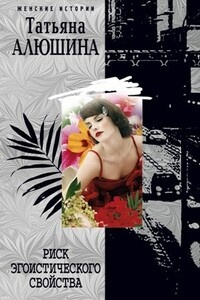«Я помню давно — учили меня отец мой и ма-а-ать…» — тянул Олежка Капустин, силясь хрипеть «под Розенбаума». Дашка с упоением подпевала, и казалось, что это «учение» матери с отцом происходило действительно как-то уже ностальгически давно.
«Лечить — так лечи-ить, любить — так люби-ить…»
— Гулять — так гулять! — радостно хрипит Олежка, останавливаясь посреди песни.
— Эй, Мухина, слетай за бутылкой!
— Ага…
Дашка поднялась на третий этаж, напевая про то, что утки уже летят высоко. С удовольствием разогналась в гулком пустом коридоре, вошла в туалет и слегка отлетела обратно в дверной проем, как шальная муха, врезавшаяся лбом в стекло.
Ильин целовал Симонову, прислонив ее к двери в каморку уборщицы.
— Мухина, чего ты?
Его взгляд, дружелюбный, насмешливый и слегка нетерпеливый, упал на нее тяжестью ладони, прихлопнувшей эту самую муху. Катька обернулась, но встретиться с ней глазами было невозможно по той причине, что глаза у той были закрыты.
— А мы тут за шампанским пошли… Сейчас принесем, ага?
— Ага.
Дашка развернулась, прошла вниз по темной лестнице, задержалась между этажами, глядя, как сверкает под прожектором снег на тюремном заборе, и тихо опустилась на свое место рядом с Капустой.
— Сейчас принесут.
Они принесли. И пили. И пели. И Дашка заснула с твердой уверенностью, что так оно и должно быть, и ей снилось, что сугробы на казематной стене превращаются в человеческие пальцы, как холмы в музее Чюрлениса.
Все-таки их засекли. Пьяные дети сидели на стульчиках в вестибюле и старательно делали вид, что трезвые. Попались Гусева, Катька, Ильин, Капуста и, как ни странно, Танька Тимохина — остальные тогда ушли смотреть, как секс-бомба Рабинович, пользуясь защитой стекла и стены, показывает охраннику на вышке прыщавую грудь в хлопковом лифчике.
— Симонова, ты же староста! — Голос у Тамары дрожит, и от этого они трезвеют быстрее, чем от страха перед будущим возвращением в Москву.
— Ну и что, что староста? — Симонова обиженно выпячивает губы, стараясь не дышать в сторону учителя. — Ну и что?! Все староста да староста… У меня, Тамара Ивановна, силы воли нет, вот! — вдруг выдает она, как скорбный, но свершившийся факт.
— Как это — нет? Катя?! Что ты говоришь? — Тамара даже опешила — видно, что не ожидала, бедная, такого откровения. — Уж у тебя-то нет… Как так? — не поверила она.
— А так — нет. Я, между прочим, Тамара Ивановна, курю! И бросить не могу!
Похоже, первый раз в жизни Тамаре было нечего сказать. Потому что она молчала. И бледнела. И у нее было такое странное выражение лица, как будто она хочет засмеяться, но сейчас заплачет.
— Да что тут такого? — попыталась разрядить обстановку Гусева. — Ну выпили чуть-чуть, и что? Подумаешь…
Это помогло, потому что Тамара моментально пришла в себя.
— Так, кто еще в этом безобразии участвовал?! Признавайтесь сами! Не нюхать же мне вас!
Все молчат. И всем понятно, что сидеть им в неуютном вестибюле столько, сколько надо, хоть до самого утра, пока не признаются все «участники безобразия».
— Эх вы. Пить-курить, значит, можете, а за свои поступки пусть отвечает Тютькин, да? Надо уметь принимать решения! — говорит Тамара.
Дашка вообще-то всегда была мямлей, но иногда она умела принимать решения.
— Действительно, Тамара Ивановна, что такого? Мне вот мама сама чекушку предлагала с собой взять. Холодно же…
— И мне! И мне тоже! И мне!! — послышалось отовсюду, и Дашка с удивлением различала в поднявшемся гомоне голоса тех, кто вообще никогда не пил — по политическим убеждениям.
К родительскому собранию после этой поездки готовились, как к казни. Помирать, так с музыкой — вечером на школьный двор все пришли нарядные и серьезные, мерзли у двери в школу, нервно курили, пряча сигарету в окоченевших кулаках.
— Собрание будет необычное — с присутствием самих учеников, — ледяным тоном объявила Тамара накануне.
Когда закончилась, наконец, мучительная и смешная первая часть, где было про успеваемость, институты, золотые медали и прессовый цех, нервы у всех были как… Тогда-то они и поняли окончательно, что это за слово такое — «педагог».
— Поездка прошла в целом… неплохо.