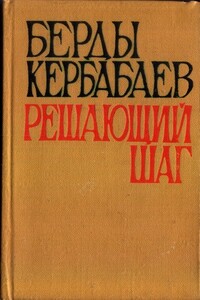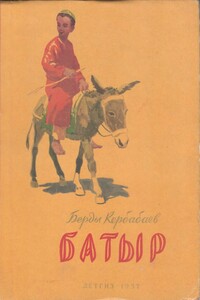В толпе делегатов— башкир, украинцев, кавказских горцев в папахах — Атабаев постоял возле Царь-пушки. Фронтовики шутили — вот такую бы к нам на Перекоп!
Туркмены гурьбой подошли к Царь-колоколу.
— На кибитку похож!
Дыра от отколотого куска и в самом деле была похожа на вход в кибитку.
— Большая туркменская семья могла бы разместиться. И собаку на двор не выгнали бы…
Туркмены простодушно смеялись, и Кайгысыз смеялся вместе со своими аульчанами, а в мыслях одно — сейчас увидим Ленина… И теперь-то он понимал, что три года жил в ожидании этого дня.
Сколько людей из этого зала унесло с собой на всю жизнь во все концы мира образ Ленина. А кто сумел описать словами минуту, когда увидел, узнал? Никто, пожалуй, — для этого нужно спокойствие сердца, владычество наблюдающего разума. А тут все в зале вдруг поднялись и грохот аплодисментов, точно горный обвал, встретил его, быстро идущего к столу в толпе других. Он торопился успокоить зал — он махнул рукой, сел, снова вскочил…
Атабаев не помнил потом этой минуты в подробностях, он не глазами, а сердцем узнавал родного человека: это Ленин! И он вместе со всеми выскочил в проход между рядами, где уже совсем ничего не было видно. И хлопал, хлопал в ладоши… Сколько было у него в эту минуту рук, чтобы хлопать в ладоши!
Казалось, много времени прошло, пока, наконец, Ленин взошел на трибуну. И теперь новое сильное впечатление ошеломило Кайгысыза, — впечатление от звука голоса, донесшегося с трибуны, впечатление от убежденной и внятной интонации, от волевой окраски этого голоса, впечатление от ленинского жеста, — разумного и слитного с голосом,.
В тот день впервые прозвучали крылатые ленинские слова — «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Атабаев потом, выезжая в аулы, всегда говорил, что он услышал эти слова из уст самого Ленина. Владимир Ильич выразил уверенность, что впредь на трибуне Всероссийских съездов будут появляться не только политические деятели и администраторы, но и инженеры и агрономы.
— …Это начало самой счастливой эпохи, когда политики будет становиться все меньше и меньше, о политике будут говорить реже и не так длинно, а больше будут говорить инженеры и агрономы, — говорил он… — Политике мы, несомненно, научились, здесь нас не собьешь, тут у нас база имеется. А с хозяйством дело обстоит плохо. Самая лучшая политика отныне — поменьше политики. Двигайте больше инженеров и агрономов, у них учитесь, их работу проверяйте, превращайте съезды и совещания не в органы митингования, а в органы проверки хозяйственных успехов, в органы, где мы могли бы настоящим образом учиться хозяйственному строительству.
Слушая и запоминая слова Ленина, Атабаев поражался необычайной объемности его тезисов и еще больше — легкости, с какой он объяснял народу сложнейшие вещи. В небольшой речи он рассказал и об итогах войны с Польшей, и о финансах, концессиях, и о взаимоотношениях с крестьянством, и о профсоюзах, и о нравственных вопросах, о той «Сухаревке», которую уничтожили в Москве на Садовом кольце и какая живет в мелкособственнических душах. И в том, как он говорил, не было ни тени дидактизма и повелительности, он как бы разъяснял людям то, что они думали сами, с чем ехали сюда со всех углов зимней, голодной, усталой страны.
Ночью, в холодом номере «Метрополя», — гостиницы, переименованной теперь во Второй дом Советов, — Кайгысыз поёживался под тонким солдатским одеялом. Не спалось. И не только потому, что было холодно. Все впечатления этого необыкновенного дня и лицо Ленина, и его голос, и его речь заново волновали до сердцебиения. Чтобы успокоить себя, он призывал на помощь всю самодисциплину, на какую был способен. Чему он выучился за этот день? Как сделать, чтобы все, что сегодня услышал, стало путеводной звездой на долгие годы? Какой теоретический корень извлечь из конкретнейших вещей, о которых говорил сегодня Ленин?
Он подошел к окну, босой, закутавшись в одеяло.
Луна в асфальтово-сером небе; искристый блеск высоких сугробов; могучие, торжественные колонны Большого театра, опоясанные гирляндами кумачовых флагов по случаю съезда; застывшие на бегу кони над фронтоном; огромная снежная безлюдная площадь…