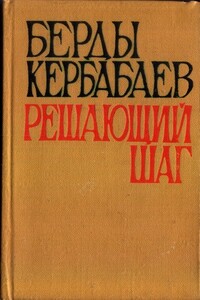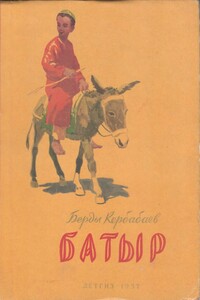Только поздно вечером Агалиев постучался в знакомую калитку на глухой окраине города. Знакомое ворчанье дряхлого пса в глубине дворика. Журчанье поливной воды в канавке… Как здесь все по-мирному хорошо.
Абдыразак зажег светильник, на минут/ потянуло чадом кунжутного масла.
— Ну, садись поудобнее, путник о шести ногах. Где коня оставил? Рад, что вижу тебя живого…
Мурад молча умывался. Неторопливо растирал мохнатым полотенцем сильные плечи, крутой затылок, твердые хрящеватые уши. Приятно почувствовать себя молодым и усталым. Приятно сбросить сапоги на пороге, упасть на бархатисто-красный ковер, закинуть руки за голову и слушать ворчливую речь отшельника-философа, за каждым его словом чувствовалась радость, что вернулся дорогой человек — живой, невредимый.
— Ты думал, что Тиг Джонс приторочил меня к седлу и увел в Индию?
— Хораз распространял слух еще страшнее…
— Хораз… И вправду, есть что-то в нем от глупого рыжего петуха… Но разве не знаешь, что лиса хитрее петуха?
— Поздравляю, если так…
— Спасибо. А ты как живешь?
— Как нищий в дупле старой чинары. Помнишь, жил такой в Ташкенте?
— Откуда мне помнить. Я родился в октябре семнадцатого года.
— Ишь, какой молодой. А уже столько нагрешил…
И Абдыразак стал рассказывать, как, уходя из Мерва, белогвардейцы убили в мечети трех священнослужителей, и сами же пустили слух среди мусульман, что это сделали большевики.
— И помогла им эта злая басня?
— Нисколько! Когда ваши вступили в город, правоверные читали намаз в дверях мечети, благодарили аллаха за избавление от зла и напастей.
— В чем же причина таких перемен?
— Великая сила сравнения. Да и формы агитации изменились. Читал сегодняшний приказ Реввоенсовета?
— Нет еще, а в чем дело?
Абдыразак вынул из ковровой торбочки, висевшей на стене, бережно сложенный лист бумаги. Приказ, отпечатанный в типографии, был, видимо, расклеен на стенах, потому что оборотная сторона бумаги хранила следы клейстера. Мурад даже повеселел, представив себе, как мусульманский философ, озираясь, осторожно срывает со стены приказ Реввоенсовета.
— Слушай внимательно! — говорил Абдыразак, надевая очки. — «Товарищи! Освобождая сегодня земли, которые были захвачены врагом, мы освобождаем народ, мучившийся под гнетом капитализма. Мы выполняем священный долг справедливости. Это обязывает нас к отзывчивости и человечности. Реввоенсовет фронта призывает товарищей красноармейцев быть в братских отношениях с местным населением…»
— Будешь хранить как талисман? — с улыбкой спросил Агалиев.
— Я запомнил, как сказал когда-то Кайгысыз: «Память учит». Вот и буду хранить. Не отказываюсь учиться до гробовой доски.
— И сколько у тебя таких учебников?
— Накапливается понемногу… Ты помнишь ночь, когда вы ко мне пришли спасаться, ты и Кайгысыз? Это было двадцать первого июня. В эту ночь Полторацкий писал свое предсмертное письмо. Оно потом ходило в списках.
Абдыразак вытащил из той же торбочки листок, исписанный чернильным карандашом, как видно под копирку.
— Не читай, не надо, — тихо сказал Мурад. — Это письмо я выучил наизусть. Оно меня сделало коммунистом. А ты, я вижу, тоже пересматриваешь свои позиции. Что-то не слышу ничего о пророке под покрывалом…
— Кое-что пересмотрел. А главным образом насмотрелся. На белых! И теперь не хочу оставаться в стороне. Я слышал, что формируется новый Горисполком, а введут в него старых чиновников. Если так — вы совершите большую ошибку. Людям прошлого нет дела до народа. Чего можно от них ждать? Произвола, лихоимства, обмана… Нужны другие люди! Люди с совестью, воспитанные по-большевистски!