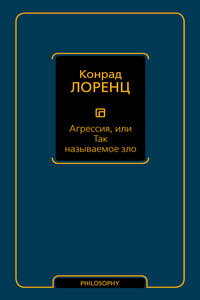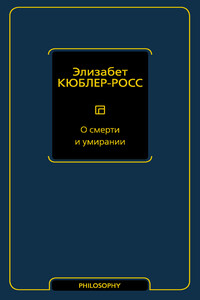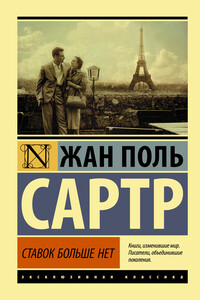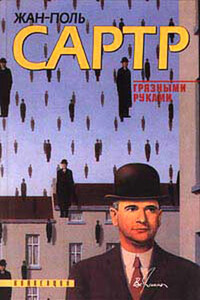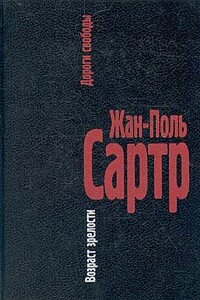читателя; но догадки подкрепляет наша твердая уверенность в том, что красота, возникающая в книге, отнюдь не результат игры случая. Если в природе дерево и небо гармонируют друг с другом, то лишь непроизвольно, зато если в романе герои оказываются в
этой башне, в
этой тюрьме, если они гуляют в
этом саду, то речь идет о построении сразу нескольких независимых причинных рядов (герой был в определенном душевном состоянии, обусловленном последовательностью психологических и общественных событий; с другой стороны, он направлялся в конкретное место, и сама планировка города вынуждала его пройти через некий парк) и о выражении более глубинной конечности, ибо парк начал существовать либо только для того,
чтобы гармонировать с известным душевным состояниям и выражать его с помощью предметного мира, либо для того, чтобы оттенять его резким контрастом; да и само душевное состояние возникло в воображении автора не безотносительно к пейзажу. Причинность здесь – одна лишь видимость, и ее можно было бы назвать «причинностью без причины», а подспудной реальностью выступает конечность. Но если я и могу с полным доверием отнестись к подчиненному целям порядку, явленному мне под видом порядка, продиктованного причинами, то только потому, что, открывая книгу, я твердо убежден: литературный объект проистекает из человеческой свободы. Если бы мне пришлось подозревать автора в том, что он писал в порыве страсти и под ее диктовку, мое доверие тотчас испарилось бы, ибо мне незачем было бы подкреплять порядок, установленный причинами, порядком, подчиненным целям, поскольку в таком случае целевой порядок поддерживался бы, в свою очередь, психической причинностью, а в итоге произведение искусства вернулось бы в оковы детерминизма
[88]. Когда я читаю, я никоим образом не отрицаю ни того, что автор может испытывать волнение, ни даже того, что первоначальный замысел его труда мог возникнуть под влиянием страсти. Но его решение писать предполагает, что он дистанцировался от собственных чувств; одним словом, превратил их в свободные чувства, как поступаю и я, когда его читаю, то есть что он занял благородную позицию. Таким образом, чтение – это благородное соглашение между автором и читателем; они оказывают друг другу доверие, полагаются друг на друга и каждый требует от другого ровно столько, сколько тот требует от него. Ибо подобное взаимное доверие и есть воплощенное благородство: силой никто не заставит автора поверить, что читатель воспользуется своей свободой, как никто силой не заставит читателя поверить, что и автор в урочное время своей свободой воспользовался. Это добровольное решение, которое принимает как один, так и другой. Устанавливается диалектическое взаимовлияние; когда я читаю, я востребую свободу; в случае, если мои требования удовлетворяются, прочитанное мною побуждает меня требовать от литератора еще больше свободы и, значит, требовать от литератора, чтобы он требовал больше свободы от меня самого. И наоборот: требование автором свободы для себя – это то, что составляет крайний предел моих притязаний. Таким образом, моя свобода при своем проявлении обнаруживает свободу другого.
Неважно, является ли эстетический объект произведением «реалистического» (или слывущего таковым) искусства или же искусства «формалистического». В любом случае, естественные отношения перевернуты: дерево на переднем плане картины Сезанна[89] поначалу выглядит как результат взаимного сцепления причин. Но причинная связь здесь иллюзорна; пока мы будем смотреть на картину, она, несомненно, будет существовать на правах особого мнения, но она приемлема и с точки зрения подспудной конечности: если это дерево стоит здесь, то только потому, что остальное пространство картины требовало, чтобы на переднем плане поместили именно такую форму и такие цвета. Следовательно, пронизывая феноменальную[90] причинность насквозь наш взгляд добирается до конечности как подспудной структуры объекта, а по другую сторону конечности он добирается до человеческой свободы как своего источника и изначальной основы. Реальность изображения у Вермеера