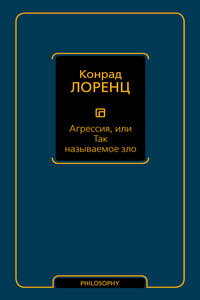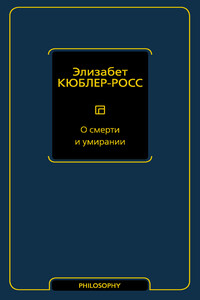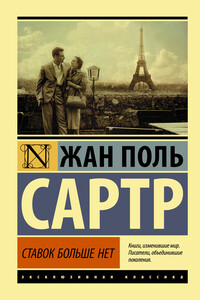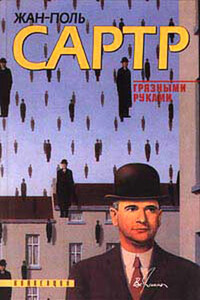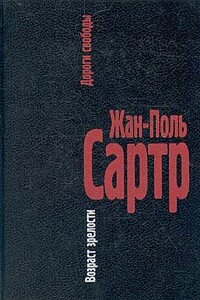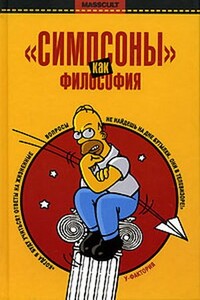Что такое литература? - страница 17
Следовательно, неправда, будто пишут для самих себя: это был бы худший провал; если бы мы переносили собственные эмоции на бумагу, нам с трудом удалось бы передать даже жалкое их подобие. Творческий акт – это всего лишь неполный и абстрактный момент в создании произведения; если бы автор существовал отдельно, сам по себе, он мог бы писать сколько угодно, но его произведение никогда не увидело бы свет в качестве объекта, а ему самому оставалось бы только либо отложить перо, либо впасть в отчаяние. Но процесс письма подразумевает процесс чтения как свой диалектический коррелят, и эти два взаимосвязанных акта требуют двух различных исполнителей. Лишь благодаря соединенным усилиям автора и читателя возникнет такой конкретный и воображаемый объект, как продукт умственного труда.
Чтение и в самом деле выступает синтезом восприятия и творчества (1); оно утверждает значимость как субъекта, так и объекта; объект значим, потому что он неукоснительно трансцендентен[72], потому что он навязывает свои собственные структуры и потому что его появления следует ждать и его надо иметь перед глазами; но значим и субъект, поскольку он необходим не только для того, чтобы обнаружить объект (то есть сделать так, чтобы объект имелся), но еще и для того, чтобы этот объект обязательно был (то есть чтобы его произвести). Словом, читатель сознает, что он в одно и то же время обнаруживает и созидает: обнаруживает, созидая, и созидает посредством обнаружения. Нельзя же и в самом деле полагать, будто чтение – это механическая процедура, а знаки воздействуют на читателя, как свет на фотографическую пластинку. Если читатель рассеян, утомлен, глуп, легкомыслен, то до него не дойдет большая часть рассказанного, и объекту не удастся заставить его «загореться» (в том смысле, в каком говорят, что «загорается» или «не загорается» огонь); такой читатель извлечет из тьмы фразы, которые будут выглядеть рожденными по воле случая. Если же он в наилучшей своей форме, то спроецирует по ту сторону слов синтетическую форму, и каждая фраза в ней будет всего лишь частичной функцией, такой как «тема», «сюжет» или «смысл». Следовательно, изначально смысл не содержится в словах, совсем наоборот, только он и позволяет понять значение каждого из них; и литературный объект, хотя он и создается посредством языка, не дан нам в языке; он, напротив, по своей природе есть безмолвие и оспаривание речи. Вот почему можно прочесть подряд сотни тысяч нанизанных в книге слов, а смысл произведения сквозь них так и не пробьется; смысл – это не сумма слов, а их органичное единство. Ничего не произойдет, если читатель не окажется сразу и почти без наущений на уровне этого безмолвия, иначе говоря, если он это безмолвие не изобретет и если он потом не поместит в него и не удержит там слова и фразы, которые он пробуждает. А если мне возразят, что эту процедуру уместнее было бы назвать повторным изобретением или открытием, я отвечу, что прежде всего подобное повторное изобретение стало бы актом столь же новым и оригинальным, как первичное изобретение. И, что особенно важно, если объект раньше не существовал, то не может и речи идти ни о его повторном изобретении, ни о его открытии. Ибо если безмолвие, о котором я говорю, и в самом деле является намеченной автором целью, то ему, во всяком случае, об этом ничего не известно. Тишина автора субъективна и предшествует языку, это отсутствие слов, нераздельное и пережитое им молчание воображения, которое в тексте затем будет досконально описано; у читателя же все по-иному: произведенное им безмолвие – это объект. И внутри этого объекта есть еще свои недомолвки: то, о чем автор не говорит. Речь идет о намерениях столь неординарных, что они безусловно утратили бы смысл вне объекта, возникающего в ходе чтения; вместе с тем именно они создают плотность объекта и придают ему неповторимый облик. Мало сказать, что они невыражены: они-то как раз и невыразимы. А потому их нельзя обнаружить в какой-либо конкретный момент чтения; они повсюду и нигде: власть чудесного в «Большом Мольне»