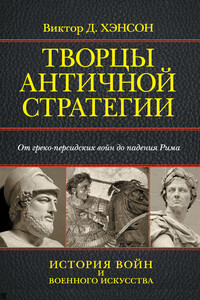Что нам делать с Роланом Бартом? Материалы международной конференции, Санкт-Петербург, декабрь 2015 года - страница 21
Строгое требование специфичности театральной знаковости распространяется у Барта даже на такой подсобный элемент, как костюм: материальное выражение общественного разноречия, он должен быть интеллектуально, а не только эмоционально функционален и, как всякий знак, транзитивен, то есть не превышать полномочия служебного инструмента. Уже здесь видно, что Барт как будто предвидит то удовольствие от текста, которое впоследствии его захлестнет, и старается избежать этого автотелического очарования, дисциплинировать знак.
На примере такого материального элемента театра, как костюм, Барт разбирает все пороки гипертрофии, которые могут поразить знак. Их три: веризм (историческое правдоподобие деталей, доходящее до своей противоположности), эстетизм (сосредоточивающий внимание зрителя на паразитической тавтологии хорошего цвета или находчивой драпировки, позволяющей глазам пировать и даже способной снискать аплодисменты) и, наконец, гипертрофированная роскошь (кажущаяся наиболее надежным вложением денег, заплаченных за билет, но остающаяся в конечном счете поддельной). Настоящий костюм (как и знак вообще) должен быть аргументом не столько зримым, сколько прозрачно прочитываемым в своей политике знака (которую буржуазный театр стремится растворить в археологической достоверности, вырожденной и не означающей)[100]. Знак также может быть скудным и избыточным, буквальным и неадекватным, натуралистичным[101] и загромождающим, словом, заключает в себе всю двойственность семиотического: он должен быть достаточно материальным, чтобы отчетливо обозначать, и достаточно бесплотным, чтобы не нагромождать паразитических знаков. Можно сказать, что молодой Барт еще питает некоторое подозрение по отношению к знаковой поверхности (хотя безусловно сознает ее неотклонимость) и создает политические ограничения для гипертрофии знака.
Иногда он даже говорит о принципиальной «изнашиваемости» знаков, которой противопоставлено физическое присутствие актеров, «переживаемое» и способное «заразить», в особенности заметное в античном театре (существовавшее там – как иногда можно понять Барта – помимо знаков), а теперь лишь декоративное, впавшее в вырожденную знаковость[102]. Эти обертоны у Барта можно назвать антисемиологическими[103].
Однако отношение даже раннего Барта – театрального критика и мифолога – к знакам, разумеется, сложнее отношения к ним дровосека. Так, в большинстве статей о Брехте смыслом становится не правда актерских переживаний, но политическая взаимосвязь ситуаций. Характерно, что сопротивляющаяся террору письма и мечтающая о сообществе без имен и признаков, выдающих людей ненасытному порядку, мамаша Кураж существует вне метаязыка[104]. Подобно дровосеку, она существует в объектном, строго утилитарном языке, фразы которого строго приравниваются к действиям, ведущим к изменению ситуации (а не описывающим ее). Хотя мы и пытаемся привычно обернуть факт в оценку, Брехт (и вслед за ним Барт) возвращает нас к переходному содержанию человеческих действий.
Точно так же, критикуя знаки цвета, «так и стремящиеся назвать свое имя» и занявшие место субстанции цвета[105], Барт рассчитывает оживить театральный предмет тем, чтобы обнаружить материал, из которого он сделан, – и это снова настолько же приближается к постулатам «языка дровосека», насколько характерно расходится с соссюровскими[106]. Однако движение к субстанциальности, если угодно, «каменности камня» необходимо Барту не как регресс к некоему дознаковому существованию, но, напротив, как умножение мерности знака, его функционализация. Из того, что может быть всего лишь реквизитом или вырожденным, гипертрофированным знаком, он стремится создать нечто третье, «сделав его не только правдоподобным знаком, но