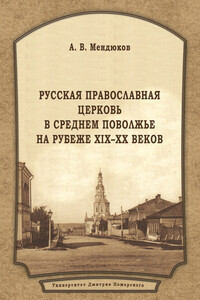Если искать какие-либо аналогии «языку дровосека» в поэтике, нужно прежде всего вспомнить футуристов и подобные им авангардные движения, верившие в возможность реорганизовать язык в сторону большей мотивированности и одновременно большей действенности знака, культивируя его поэтическую потенцию, которую они понимали столь же транзитивно. Точно так же как революционно настроенная литература должна не отражать мир, а участвовать в его становлении (ср. у Маяковского: «Можно не писать о войне, но нужно писать войной»), идеальный адамический язык у Беньямина должен не медиализировать мир (тем самым рискуя не только отчуждением мира, но и самоотчуждением), но тоже каким-то образом совпадать с ним (ср. «высказывать само дерево» у Барта, «выразить этот клочок бумаги» у Гегеля). В этой странной попытке зацепить язык за реальность совпадают требования репрезентации и автономии языка. Такое совпадение знака с миром, однако, уже не сводится к его растворению в референции; напротив, приняв решение отвечать миру непосредственным образом (или, в других терминах, быть его индексальным знаком), знак становится индексальным и наиболее достоверным выражением реальности, а «вещь» – дискурсивным элементом ситуации высказывания и потому наиболее действенным его медиатором.
Таким образом, в фигуре «языка дровосека» разнесенность знака с миром не уступает, как может показаться, эволюционно более раннему, докритическому представлению (особенно почитаемому модернистской культурой и магическим языкознанием) о слове, которое должно существовать наравне с вещью или даже быть самой вещью, но скорее указывает на уподобление слова действию. Для того чтобы не допускать отката к теории языка как репрезентации (вещей), но при этом сохранить связь с внеязыковой реальностью, и необходимо постулировать транзитивность знака и его операторный характер.
Такой «язык дровосека» манифестируется не только в концептуальном персонаже послевоенной французской семиологии, но намного раньше – в художественных манифестах литературы чрезвычайного положения, объединяемых сближением движения пера и орудий физического труда: топора – согласно русскому фольклору, лопаты – в случае Шаламова[95] или даже оружия – штыка – в случае Маяковского. К таким же случаям уподобления семиотического труда физическому, а знаков – физическим объектам и операциям, подразумевающим определенную философию языка и «мораль формы» в литературе, относится «литература факта» и «новый роман» (Nouveau roman)[96]. Ближайшими родственниками дровосека Ролана Барта по типу отношения к языку и социальной практике в литературе оказываются, таким образом, автор советского производственного очерка – специалист, владеющий не объектным словом, но взглядом, направленным на «знакомые вещи» [Литература факта 2000: 85], или депсихологизированный повествователь «нового романа», отрекающийся от мира «значений» в пользу мира «самих вещей» [Барт 1996: 11][97].
Чтобы рассмотреть подробнее один из примеров применения философии языка дровосека в искусстве, я хотел бы обратиться в заключение к ранним работам Барта о театре, которые совпадают с «Мифологиями» не только годами создания (1954–1956), но и самим способом делания (заметки о театральных постановках, как и описания отдельных «мифов», изначально публиковались в журналах – «Théâtre populaire»[98] и «Lettres nouvelles» соответственно).
В театральной критике Барта, которую можно назвать критикой (изображаемого) действия, появляются те ходы мысли, в которых угадывается зрелый Барт: он говорит о бессмысленности натурализма, о восприятии только зримого (знаков), о маске, которой актер отмечается и возвышается, о реальных действиях (агонии), которые могут не иметь «театральной силы», о восприятии отношений, а не вещей, о знаке как условии эмоции. Но в то же самое время все эти образцово семиологические соображения Барт примечательным образом сочетает с чем-то совершенно иным. Так, в своих положительных рецензиях Барт говорит о «явлении знака во всей полноте» [Барт 2015: 39], выталкивающем из позиции любопытствующего буржуазного зрителя, но также и о приемах, «заходящих в подлинности знаков уж очень далеко» [Барт 2015: 41]. Об одной сохраняющей интеллектуальную неуступчивость пьесе Барт говорит как об основанной на