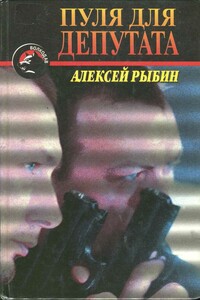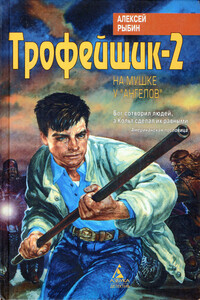– Может быть, пока на кухню? – тихо спросил Полянский у своего более искушенного в планировке Пашиной квартиры друга.
И то сказать – сесть в гостиной, превращенной в импровизированный концертный зал, было некуда и не на что. Комната была забита народом – любители подпольного рока сидели на полу, занимая всю площадь. Они расположились полукругом, оставив место только для табурета с сидящим на нем Лековым, который крутил гитарные колки, настраивая инструмент. Концерт еще не начался, но в помещении уже стоял густой синий туман от табачного – Полянский, поведя носом, быстро понял, что и не только табачного, – дыма, уже звенели посудой наиболее нетерпеливые, там и сям раздавалось характерное бульканье разливаемого по стаканам вина.
– Да, пожалуй, – согласился Огурцов.
На кухне усердно, туша сигаретные окурки в пустой консервной банке и тут же поджигая новые, курили трое подростков неопределенного, впрочем, возраста. Огурцов давно уже вывел теорию, гласящую, что рок-н-ролл нивелирует возраст, и те, кого они увидели сейчас, служили еще одним живым подтверждением теоретических выкладок молодого философа. Подросткам могло быть и по семнадцать, и по двадцать, и по двадцать пять лет – редкие бородки, жидкие юношеские усики, длинные волосы, затертые, дырявые джинсы, припухшие глаза, румянец на провалившихся щечках. Все трое тощие, сутулые, угловатые.
Завидев вновь прибывших, подростки на миг замолчали, потом продолжили беседу, как заметил Огурцов, уже с расчетом на аудиторию. Они не знали ни его, ни Полянского, поэтому, вероятно, решили показать неизвестным гостям свою осведомленность в происходящем и причастность к святая святых.
«Все понятно, – подумал Огурцов. – Они считают, что и Леков, и вообще вся наша рок-музыка – это специально для них делается. Ну-ну...»
Он взглянул на Полянского. По лицу Дюка скользнула кривая усмешка – скользнула и пропала. Полянский не любил демонстрировать свои чувства окружающим, тем более незнакомым.
– Ну, послушаем, что он сегодня нам залепит, – сказал один из молодых гостей. Он был пониже своих товарищей и, кажется, помоложе, хотя определенно сказать это было трудно.
– Продался Василек, – печально покачал головой высокий, в длинном, почти до колен спускавшемся, порванном на локтях свитере. Волосы длинного были со свитером одного оттенка – грязно-коричневые, ни каштановыми, ни какими другими их назвать было нельзя – именно грязно-коричневые и никак иначе. Кончики давно не мытых волос терялись среди ниток, торчащих из поношенного свитера, – казалось, что они вплетаются в шерсть, создавая некое подобие капюшона. Даже с близкого расстояния нельзя было с уверенностью сказать, где кончаются волосы и где, соответственно, начинается свитер.
Пока Огурцов думал о том, как странно все-таки одеваются современные молодые люди, те продолжали беседу.
– Точно, продался, – согласился первый из осуждавших артиста. – С Лукашиной в одних концертах играет. И с Григоровичем.
– Ну, этот-то, вообще – мажорище, – неожиданно злобно рявкнул третий, до сих пор молчавший и смоливший мятую беломорину. Этот юноша, оказавшийся самым ортодоксальным и злобным из всей троицы, был одет более-менее прилично – в поношенный джинсовый костюм, правда, изобилующий заштопанными дырками, но Огурец быстро определил, что дырки эти были проделаны в иностранных синих доспехах специально, да и штопка была слишком уж аккуратной, нарочитой какой-то.
– Мажорище, – повторил джинсовый мальчик. – Эстрада.
– Эстрада, эстрада, – закивали головами товарищи джинсового. – Совок.
Сказав это, все трое покосились на Огурцова и Полянского.
– Закурить дайте, ребята, – сказал Огурцов, стараясь сдержать улыбку.
– Держи. Парень в свитере протянул вновь прибывшему мятую пачку «Беломора».
– Спасибо. А выпить нету?
– Нету, – гордо ответил джинсовый. – Мы не пьем.
– А чего же вы сюда пришли? – спросил Полянский.
– Да так... Послушать. А вам Леков нравится?
– Он наш друг старый, – сказал Огурцов.
– Да?.. – Джинсовый смешался. – Давно его знаете?
– Прилично, – ответил Полянский. – Классный парень, правда? Хоть и беспредельщик.