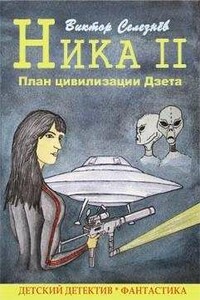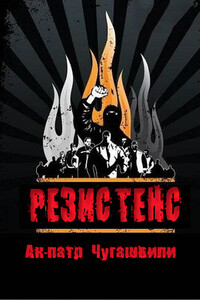– Философ, – я усмехаюсь, – тебе бы книжки писать.
– А тебе лишь бы отшучиваться, – парирует он.
Окурок разрезает тьму ярким росчерком, словно проводит красную линию, за которой дороги назад уже не будет, шипит в сырой листве под ногами, мигом остывая.
– Ган, тьма – она рядом, она не даст слабины, она подкараулит и навалится со всей силы, сомнет и сломает, станет частью тебя.
Мы идем по тропинке, достаточно широкой, чтобы шагать бок о бок, я то и дело придерживаю деда за плечо, когда он спотыкается о комья земли или неровности.
– Саныч, напомни, сколько раз ты говорил подобное?
– И буду говорить, – яростно шепчет дед, – буду! Не поздно еще, за грехи воздастся, но можно искупить. На правильный путь свернуть. Хватит работать на Кардинала, хватит возиться в грязи.
– Саныч, пожалуйста. Везде могут быть уши, не лезь в дела, не касающиеся тебя.
– Уши, – бормочет он, – я пожил прилично, ничего мне не страшно. Говорю что хочу и где хочу. А фанатиков этих не боюсь. Не боюсь! – громко заявляет он тьме и плюет смачно в пустоту.
– Саныч, пошли лучше в дом, пропустим по стаканчику сивухи, согреться надо.
– А пошли, – соглашается дед, – но не думай, что я так просто отстану. Ты человек ведь неплохой, не говно, не амеба, не стадное животное. Но занимаешься чем-то нехорошим, я пятой точкой чувствую. А интуиция, уж поверь, меня никогда не подводила еще.
Мы медленно карабкаемся по скользкой дорожке на пологий холм, где на фоне неба чернеет кособокая хижина – приют и оплот души, все глубже затягиваемой в силки, заботливо расставленные тьмой. Тьма умеет ждать.
Тьма умеет ждать. Она ждала сейчас Гана в свои объятия, как родная мать ждет сына домой после долгого отсутствия. Был ли туман частью тьмы? Его граница была уже рядом, несколько минут ходу отделяло их от чуть прозрачной мглы впереди, из которой виднелся нос лайнера. Туман бурлил и переливался, то темнел и густел, то немного расступался, словно приглашая окунуться в эту пепельную пелену. Напряжение возросло, это чувствовалось по насупившимся лицам, по напрягшимся рукам, нащупывающим оружие на дне лодки.
Митя уже достал арбалет и взвел тетиву; сухо щелкнул механизм, провернулся барабан. Приподнялся Карасев, внимательно оглядывая пространство, пытаясь найти хоть одну зацепку, хоть что-то, указывавшее на непосредственную опасность, угрожающую жизни экипажа.
Первый помощник сбавил скорость, мотор работал тихо, они еле продвигались по воде. Все напрягли слух, готовые реагировать по обстоятельствам.
Ган думал о Саныче, но продолжал следить и за туманом. Он никого не убил в этом своем воспоминании, но оно оглушило не менее больно. Он впервые вспомнил родного человека. Близкого друга. Возможно, Саныч заменил ему отца. Возможно, эти воспоминания принадлежали не ему. Похоже, он научился реагировать на такие «приходы» – озарение прошло незаметно для остальных, эмоции он оставил при себе – на лице не дрогнул ни один мускул, да и не смотрела команда на Гана в тот момент. Просто новый элемент пазла в картинку, рано или поздно он сможет собрать их все воедино.
Острый нос лайнера будто вспарывал облако тумана, выдавался вперед, металлическая обшивка была обшарпанной, краска местами сохранилась, но по большей части висела лохмотьями, кое-где зияли дыры. В одном месте корпус повыше ватерлинии был проломлен якорем так, что наружу торчал только шток со скобой, не позволивший всей конструкции провалиться внутрь. Какая сила забросила его туда, оставалось только догадываться. С другой стороны свисал обрывок ржавой якорной цепи. Одно из звеньев было разорвано, скорее всего, второй якорь покоился в грунте под водой. На носу судна была открытая всем ветрам площадка. Палубы начинались дальше, росли ступеньками и терялись в дымке. Три или четыре палубы, отсюда было не разглядеть, как он ни старался. Да и не такой уж важный это был факт.
Корабль выглядел зловеще, пугал и казался необитаемым. Никто их не встречал, не махал с борта, не летели стрелы или пули. Жуткая тишина.
– Подплывем к борту, – вполголоса сказал Трофимов. Это были его первые слова с момента отплытия.