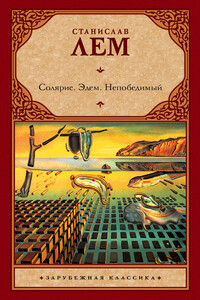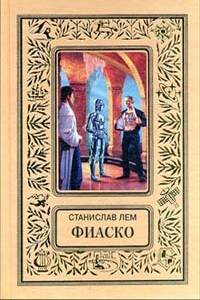Свой атеизм я считаю абсолютно личным делом. В моем восприятии он не имеет ничего общего с подавленностью, которую вызывает у меня ситуация, господствующая в мире и особенно в нашей стране. В ежеквартальнике «Bez Dogmatu», присылаемом мне редакцией бесплатно, в последнем номере опубликован текст[89], много дающий для размышления, и основная мысль которого такова, что антисемитизм, который остался у нас после уничтожения евреев, не только и не столько локализирован в отдельных людях, сколько в основной сети межчеловеческой коммуникации, каковой является язык. Это очень странно, но объяснимо, как наличие устойчивого запаха гари после пожара, где осталось только пепелище. Я считаю, что этот «антисемитизм без евреев» бросил на наше общество мрачную тень морального равнодушия по отношению к непристойным явлениям, не имеющим ничего общего с расизмом.
Глухое молчание Церкви относительно всего, что в рамках программ «реалити шоу» представляет наше телевидение, с какими-то «Амазонками», которые будут – как рассказывают газеты – совершать непристойные действия, приводит меня в оцепенение. Как раз сегодня я читал письменное обращение наших главных режиссеров, призывающих кого только можно к противостоянию этим «circenses»[90], которых я никогда не видел и не увижу, но опасаюсь, что миллионная аудитория посчитает представленные программы развлечением, тем самым принося телевидению миллионные барыши.
В этой ситуации редакция, которая согласно вашему письму должна заменить настоящую[91], станет для меня собранием, спасающимся бегством от человеческой действительности. Вопросы этики, проблема моральных ценностей не были для меня никогда функцией какой-либо трансцендентальной санкции. Я не могу ничего посоветовать относительно того, что есть. Меня захватил шквал информации об ускорениях на биотехнически-компьютерных фронтах, и я вижу все шире раскрывающиеся ножницы между великолепием технологических достижений человечества и бесстыдно безучастной скоптофилией[92] массовой культуры, которая использует самые современные изобретения для удовлетворения множащихся никчемных потребностей. Кроме того, признаюсь, что я не могу понять, почему впечатлительность или, более того, отвращение ко всяческой оскорбляющей мои чувства гадости могут свидетельствовать либо о моей личной вере, либо о неверии в любую вневременность. Отсутствие веры в загробную справедливость, – которая карает непристойность и вознаграждает добродетель, в моем понимании усиливает ответственность за то, что происходит в нашей действительности, хотя здесь и отсутствуют возможности успешного противостояния злу.
Добавлю также, что в последнее время я вернулся к чтению таких книг, как «История Польши 1918–1939» Мацкевича-Цата и биография Пилсудского авторства Енджеевича. Это было грустное чтение, а напоследок еще как раз перечитывал Норвида. Я думаю, что не надо объяснять ксендзу, что в последней инстанции каждый человек отвечает за самого себя, а поэтому не может ни тыкать пальцем в других, ни оправдывать безобразия своих поступков историческим переплетением событий или политической ситуацией и т. д. Я считаю, что Колаковский в свое время ошибался, написав, что личность уже в силу самого факта существования берет на себя ответственность за всех живущих. Impossibilium nulla obligatio[93]. Главным недостатком обретения свободы является для меня свобода слова. Это очень много, ведь если говорят все, возникает бессмысленный шум. Мы живем во времена массового привлечения безвинных к участию в охлократических провинностях. Это не выражение осуждения, а только обычная констатация. Для меня вопрос веры и неверия находится на континенте, возможно, секулярно огромном, но полностью обособленном и почти не пересекающемся с повседневностью обычной человеческой жизни. Наша ситуация, впрочем, абсолютно симметрична, поскольку, узнав из электронного письма, что ксендз удивляется мне, я удивляюсь ксендзу.