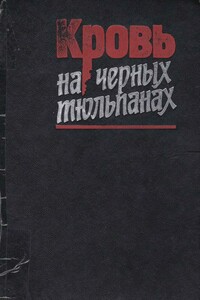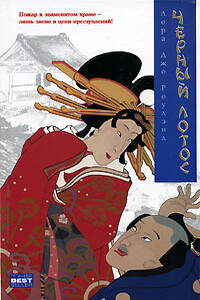А вот и уже почти собственное дело по коммерческой части — коммивояжер! Франтовато одетый (профессия!), модная прическа, холеные руки... Правда, платят гроши, но это уже другой, столь желанный ему с самых юных лет, мир больших денег и сытой жизни...
...Евно облизал пересохшие губы. Они были толстые, по-негритянски вывороченные.
«Хорошо бы сейчас полдюжины сарделек, — подумалось ему. — Да с тушеной капустой, да пару темного пива! Эх, понимают немцы толк в жратве, понимают!»
В животе заурчало. Как хочется все-таки есть! Были бы деньги, сходил бы, нет, побежал бы! сейчас же в «бир-халле» — и сразу полдюжины, нет, дюжину жирных, лоснящихся сарделек!
Он сглотнул заполнившую рот слюну.
Но денег нет. И не предвидится. Отец ничего не пришлет, даже если бы и захотел — взять неоткуда, в делах ему, как всегда, не везет. Как орал он на сына, когда Евно впервые сказал ему, что хочет учиться дальше, все равно на кого — на адвоката, на врача или инженера.
— Но ты же уже пошел по коммерческой части! — возмутился отец. — Зачем бедному еврею университет? Там, в столицах, ты будешь всем чужой. А здесь... разве мало евреев выбилось здесь, в Ростове, в люди? Здесь тебе не дадут пропасть, всегда поддержат. Вот и сейчас у тебя уже настоящее дело — купец из Мариуполя поручил тебе продать партию масла и пообещал хорошую комиссию! Что тебе еще надо?
Отец задыхался от волнения, видя, как равнодушно слушает его сын. Плоское лицо Евно было непроницаемо, глаза тусклы, широкие скулы придавали ему сходство с ликами каменных баб с курганов южнорусских ковыльных степей. И Фишель Азеф понял, что сын не слушает его, что в тяжелой, грубо сколоченной голове Евно, где-то за узким, упрямо выставленным вперед лбом текут какие-то трудные, непонятные для него, бедного местечкового портного, вязкие мысли.
Он растерянно замолчал и бессильно вздохнул. Веки Евно дрогнули, тяжелый взгляд темных глаз медленно прошелся по бледному от волнения лицу отца.
— Мне нельзя оставаться в Ростове, отец.
Голос Евно звучал глухо и в то же время решительно:
— Меня могут со дня на день арестовать... по политическому делу.
— Ай, да что ты говоришь! — взмахнул руками старый Фишель. — Если ты связался с какими-нибудь байстрюками, которые бесятся от безделья и ругают царя, то тебя сразу так и нужно арестовывать? Да кто сейчас с ними не связывается? Кружки, сходки... Кто из молодых хоть раз этого не попробовал! Видно, время такое, никуда от этого не денешься...
Он говорил что-то еще и еще, но Евно его не слышал. Решение было принято, и отступать Азеф-младший был не намерен.
А через несколько дней ростовские купцы заговорили о позоре, обрушившемся на седую голову невезучего Фишеля: его сын Евно обманул доверившегося ему торговца из Мариуполя, продал принадлежавшее тому масло, а деньги присвоил. Восемьсот рублей, сумма немалая. Присвоил и был таков — бежал за границу!
...Нет, угрызениями совести Евно не терзался, ведь деньги ему были нужны гораздо больше, чем какому-то там мариупольскому толстосуму. Сама судьба вручила ему эти деньги и указала путь в жизни — первые ступеньки этого пути: Германия, Карлсруэ, политехникум.
Был 1892 год.
...В животе бурлило не переставая, голод подступал спазмами, и терпеть его больше не было никаких сил. И, поняв, что вот-вот потеряет сознание, Евно решился. Встав с кровати, подошел к окну и взял сверток вощеной бумаги, прислоненный к холодному весеннему стеклу. Апрель только начинался, и, хотя снега уже не было, весна по-настоящему пока еще не наступила.
Выдвинув из-под кровати обитый жестью сундучок, купленный на рынке перед бегством из Ростова, Евно достал из него спиртовку и сковородку. Хозяйка строго-настрого запрещала пользоваться всем этим в комнатах, но готовить еду дома было студентам куда дешевле, чем питаться даже в самой захудалой городской столовке, и Евно, как и все, обзавелся спиртовкой и сковородкой, которые и хранил в запертом (от хозяйки) сундучке под кроватью. Впрочем, жарил он себе только мясо — большие, толстые куски третьего сорта, те, что обычно оставлял соседский мясник для владельцев собак.