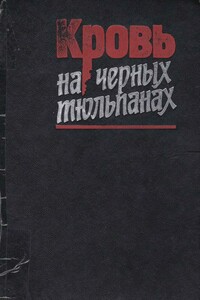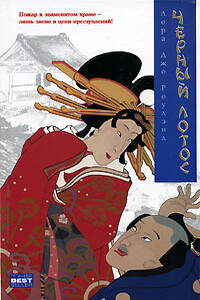— Герр Неймайер? — сидящая за столиком в начале больничного коридора сестра милосердия подняла взгляд на стоящую перед ней красивую, хорошо одетую даму. — Он очень плох, фрау, но если вы его близкая родственница, то...
— Я его жена, фрейлейн.
— Тогда позвольте я провожу вас к нему...
Войдя в палату, госпожа Н. брезгливо подернула носом — в небольшой неуютной комнате с голыми, крашенными белой масляной краской стенами пахло тем специфически больничным запахом, который трудно описать словами — нечто химическое в смеси с тяжелым, спертым воздухом и запахом человеческого тела.
Посреди палаты стояла высокая железная кровать, крашенная все той же белой больничной краской, а на ней возвышалась человеческая груда, прикрытая серым казенным одеялом.
Азеф был без сознания. Госпожа Н. тихо смотрела на его желтое оплывшее лицо с дряблыми отечными мешками под плотно закрытыми глазами и нервно нюхала крепко надушенный платок, пытаясь спастись от запаха смерти, который, казалось ей, наполнял сейчас все вокруг.
Неожиданно веки умирающего дрогнули и тяжело приоткрылись. Взгляд мутных глаз остановился на холеном лице госпожи Н.
— Ты? — почти простонал Азеф. — Хорошо, что ты пришла.
— Как ты себя чувствуешь, милый? — Госпожа Н. постаралась вложить в этот вопрос всю нежность, которую ей удалось найти в своей душе.
— Как идут дела... в твоей мастерской? — с трудом, морщась от боли, процедил сквозь зубы Азеф.
— Идут, — выдохнула госпожа Н., поднося к глазам платок.
— Не делай корсеты больших размеров. Наступают тяжелые, голодные времена... Дамы будут худеть... — Глаза его закрылись, потом приоткрылись опять: — Я сделал глупость, вложив все мои деньги в русские ценные бумаги, — прошептал он. — Война и революция обесценили их... Мы все потеряли. Все зря... Я опять нищ. Нищ, как в самом начале. Нищ...
Это был уже бред. Евно Фишелевич Азеф, «Великий провокатор», как назвал его один из известных в те годы политических журналистов, скончался от болезни почек в берлинской больнице в 4 часа пополудни 24 апреля 1918 года, пробыв на больничной койке всего несколько дней. Кончилась жизнь, которая была чернее самой черной ночи, залитая грязью и кровью.
26 апреля он был похоронен по второму разряду на кладбище в Вильмерсдорфе (Берлин). Кроме госпожи Н., за гробом никто не шел. На обнесенной оградой могиле не было поставлено ни памятника, ни даже могильного камня. Только две туи, куст шиповника, да табличка с кладбищенским номером — 446.
Госпожа Н., заботливо ухаживавшая за могилой, так объяснила это одному из русских эмигрантов, написавшему книгу об Азефе:
— Знаете, здесь сейчас так много русских, часто ходят и сюда... Вот видите, рядом тоже русские лежат. Кто-нибудь прочтет, вспомнит старое, — могут выйти неприятности... Лучше не надо...
Это было сказано весной 1925 года.
* * *
...Я поставил последнюю точку и задумался. Вот и окончен мой труд, выполнено обещание, данное Льву Александровичу Никольскому в далеком теперь от меня Бейруте. Работая над книгой, я окунулся в чужую жизнь и попытался пройти ее со ступеньки на ступеньку. Да, это была жизнь алчного мерзавца, и в то же время Азеф — фигура глубоко трагедийная, характер крупный, хоть и отрицательный...
С какой-то непонятной грустью я стал убирать с моего письменного стола конспекты документов Никольского, листки бумаги с выписками из архивов, книги, содержащие, как говорится на языке исследователя, «справочный аппарат». Их было много. И каждый из их авторов посильно помогал мне в моей работе. Если бы я писал научный труд, я перечислил бы в заключение каждого из них. И теперь говорю им всем, давно покинувшим нашу землю, самое искреннее спасибо за то, что они мне дали, за ту помощь, которую они, не зная уже об этом, оказали мне в моей работе.