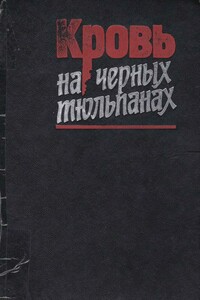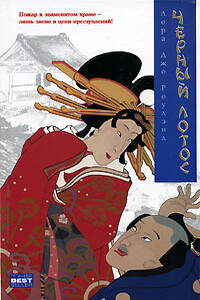Нетрудно заметить и понять, что Азеф в письме к Савинкову старается скрыть свой страх и блефует. Хотя он и ссылается на таинственного X., который якобы держит его в курсе намерений Бурцева, на самом деле он пока не знает о таинственном оружии Владимира Львовича, о котором тот поведал Савинкову и которое, судя по письму, Савинков пока не рассекретил для своего воспитателя и учителя.
«...Если суда не будет, — храбрится Азеф, — разговоры не уменьшатся, а увеличатся, а почва для них имеется — ведь биографии моей многие не знают».
Если бы только Евно Фишелевич знал, насколько хорошо к этому моменту была его биография известна Бурцеву!
Поняв же, что третейского суда не избежать, Азеф, верный своей излюбленной наступательной тактике, наращивал давление не только на судей, но и на Центральный комитет ПСР:
«Конечно, мы унизились, идя на суд с Бурцевым. Это недостойно нас, как организации. Но все приняло такие размеры, что приходится и унизиться. Мне кажется, что молчать нельзя, — пишет он Савинкову, — ты забываешь размеры огласок. Но если вы там найдете возможность наплевать (Азеф, как утопающий, хватается за соломинку), то готов плюнуть и я вместе с вами, если это уже не поздно. Я уверен, что товарищи пойдут до конца в защите чести товарища, а потому я готов отступиться от своего мнения и отказаться от суда».
И опять не может сдержать животного страха:
«...Мне хотелось только не присутствовать во время этой процедуры. Я чувствую, что это меня совсем разобьет. Старайся, насколько возможно, меня избавить от этого».
Заседания суда проходили изо дня в день на различных парижских квартирах, но чаще всего собирались в тесном, по-спартански обставленном жилище Савинкова.
И это был действительно суд над Бурцевым. Его главный свидетель Бакай, согласившийся выступить перед судьями, Черновым, Натансоном и Савинковым, был дезавуирован, как профессиональный агент-провокатор, подосланный полицией. Таково же было отношение «обвинителей» и ко всем другим информаторам, на которых ссылался Бурцев. Доказать обратное было практически невозможно, ведь эти люди действительно были так или иначе связаны с полицией.
Дело явно шло к концу, судьи видели, что Бурцев прижат к стене, но чего-то не договаривает, из последних сил старается что-то скрыть.
И «обвинители» уже готовились торжествовать победу. Добить Бурцева поручили Савинкову, который заключил свое выступление, прославляющее героические подвиги Азефа, следующим патетическим пассажем:
— Я обращаюсь к вам, Владимир Львович, как к историку русского революционного движения, и прошу вас после всего, что мы рассказывали здесь о деятельности Азефа, сказать нам совершенно откровенно: есть ли в истории русского революционного движения, где были Желябовы, Гершуни, Сазоновы, и в революционных движениях других стран более блестящее имя, чем Азеф?
Вот тогда-то Бурцев и услышал от Веры Фигнер, что ему остается только пустить себе пулю в лоб, — «за то зло, которое вы причинили делу революции...».
Услышал и понял, что именно сейчас он должен выложить на стол свою последнюю, козырную карту, тайну, доверенную им совсем недавно Савинкову, который, несмотря на близость с Азефом, сумел благородно ее сохранить. Именно сейчас, ибо, если он не сделает этого, положение его станет совершенно безнадежным.
Побледнев от волнения, он встал со стула, на котором сидел, и решительно шагнул на середину комнаты.
— Товарищи, — сказал он глухо, и выражение его лица было таким, что все поняли: сейчас должно произойти нечто совершенно неожиданное.
— Товарищи, — крепнущим голосом повторил Бурцев, — у меня есть еще доказательство того, что Азеф — провокатор! И я готов привести его, но только в том случае, если получу от вас клятвенное обещание, что сказанное мною останется в стенах этой комнаты и никто не воспользуется моим рассказом иначе, как только с разрешения присутствующих здесь членов суда.
— Я считаю, что мы можем дать такое обещание, — прервал наступившее было молчание седовласый Кропоткин.
— Говорите же, Владимир Львович, — поддержал его Лопатин.
— Революционеры умеют хранить тайны, — высокомерно взглянула на Бурцева Фигнер.