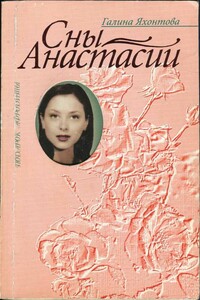— Что же?
— Ты только не волнуйся… Но он обрадовался. Даже рыдать перестал. Говорит: гора с плеч и пятно с совести.
Настя молчала, ошарашенная. Да, она, конечно же, помнила, как Ростислав оскорблял ее, как он говорил всякие гадости. Но ведь это было обращено к ней, к женщине, которая, может быть, и вызывала раздражение, поскольку действовала непредсказуемо.
„Но радоваться смерти ни в чем не повинного ребенка. Собственного сына! Это уж слишком… Но почему его сына?.. Кто был отцом малыша: тот, кто его зачал, или тот, кто желал его взрастить? Кто же? И почему я считаю, что кто-то желал, чтобы он был? Евгений, скорей всего, просто делал вид, что согласен его усыновить. Он не мог бы, не мог любить его, чужого, раз уж собственный, природой данный отец так обрадовался его смерти… Он никому не был нужен, кроме меня… Никому на свете. И я не хочу больше здесь оставаться, я не могу больше жить с мужчиной в одном доме — с этим ли, с другим ли… Я уйду в свое логово, в берлогу, в дупло — зализывать раны. Уйду…“
Ходики прокуковали девять вечера. Застолье было в самом разгаре. А Настя вынашивала мысли — одну безумней другой. Вынашивала, как ребенка.
— Настенька, у нас, кажется, еще остались яблоки? — спросил Евгений, имея в виду большой ящик чудесных зимних антоновок, который появился у них в доме две недели назад и наполнил пространство ароматом спелости.
— Да, Женя… Я пойду в кладовку, принесу.
Освещение в кладовке было тускловатое: вчера перегорела лампочка, не нашлось запасной „сотки“, пришлось вкрутить „сороковку“.
Она искала яблоки. Очевидно, ящик стал велик для той жалкой дюжины, которая осталась. Здесь нет, и здесь, и в углу… А что это за большая картонная упаковка? Настя ее раньше вроде бы не замечала… Что в ней? Она открыла коробку и увидела… Лучше бы она не открывала и не смотрела, не поддалась позывам непреодолимого женского любопытства… Потому что там, в коробке, были сложены распашонки, пеленки, памперсы, игрушки — те самые, которые Евгений привез из Германии. А вот и маленький белый медвежонок.
„Но этого медвежонка уже никто не будет укладывать спать. Никому он не станет любимой игрушкой. Никогда… Или?.. Зачем же муж все это так аккуратненько сложил и припрятал? Этот самый, запасливый мой, который писал, что начинает готовить дом к приезду нового жильца? Вот же оно, здесь: все, что он подготовил. Лежит до лучших времен? Дожидается, когда я еще кого-нибудь рожу? Родного Пирожникову ребенка? Нет! Мне нужен был только этот, он один, который шевелился во мне и толкался ножками…“
Она унесла медвежонка и, крадучись, прижимая к груди мягкую ношу, пробралась в холл, а потом спрятала игрушку в сумочку, отчего та раздулась, как живот беременной женщины.
А потом возвратилась в кладовку и все-таки нашла остатки былой роскоши — дюжину яблок, последний подарок Прозерпины, снова спустившейся в подземное царство.
Наконец-то Коля и Марина уехали. Причем Коля изрядно хлебнул шампанского. „Как же он за рулем?“ — беспокоилась Настя, но потом перестала: даст на лапу гаишнику, если что, ему не впервой.
И Евгений расслабился, зарумянился, словно принял эстафету от съеденного гуся. Он ослабил узел галстука и отвалился на спинку кресла. „Это же надо, весь вечер пробыл в галстуке, „этикетчик“ несчастный“, — мысленно брюзжала Настя.
— Настенька, уже за полночь. Пора спать?
— Да. Ты поднимайся наверх, а я приму душ.
— Ладно… Я тоже хотел ополоснуться, но сил нет ждать. Отложу до утра…
Он поднимался наверх, и деревянные ступеньки поскрипывали совсем не так, как когда-то скрипели металлические.
Настя вошла в ванную и открыла краны. Упругие струйки убегали в канализацию, невостребованные и лишние, как тропический ливень. Она знала, что там, наверху, слегка слышен водопроводный шум, и очень надеялась, что это мелодичное естественное шипение окажет на Евгения дополнительное снотворное воздействие.
Сколько времени прошло? Полчаса? Час? Она утратила чувство внутреннего „хронометража“, а потому посмотрела на ходики: половина второго.
Ах, как отвратительно поскрипывают ступеньки… И двери — их нужно смазать. Хотя — зачем?