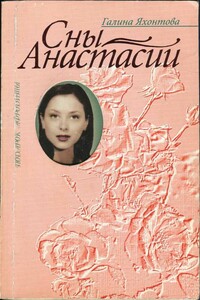— С радостью, — ответила не то домработница, а не то и приживалка.
Анастасия вспомнила, что ее имя переводится как „жизнь“, и вздрогнула от смутной ассоциации. Она вернулась в спальню и села за стол. Только он мог спасти ее. „Поэт должен быть сквозным…“ По капельке, как чернила из авторучки, она выдавливала свою беду. По буковке выписывала горе, отпускала его навечно в стихи. В то, что, как она надеялась, переживет ее… Хотя бы ненадолго.
Ближе к вечеру Настя надела черное мягкое платье фирмы „Джессика“, которое Евгений подарил ей в день, когда она сказала ему „да“. „Зачем я тогда согласилась? Какой в этом был смысл? Ровным счетом — никакого. Как и вообще в человеческом существовании. В мгновенной перед лицом вечности и насквозь запланированной жизни. Мой ребенок, плоть от плоти моей, жил всего лишь день — как бабочка, о которой писал Набоков… А соседка Наталья Николаевна доживает сотню лет. И разве есть разница? В чем?“
Ее малыш… Должно быть, он стал ангелочком, раз, как видение, сопровождает ее.
Она чувствовала себя неуютно в доме, ей хотелось вернуться в больницу, в белоснежную послеродовую палату, куда, должно быть, тоже приходит его душа.
Сестра Варвара рассказывала, что незадолго до Настиных родов в больнице умерла родильница. А ребенок, к счастью, остался жив. Близкие покойной, поглощенные скорбными хлопотами, не смогли вовремя, по истечении недельного срока, забрать младенца. Он обитал еще несколько дней в детской палате вместе с другими новорожденными. И ровно в полночь, как утверждали очевидцы — дежурные медсестры, у кроватки, где спал несчастный малыш, появлялся белый светящийся столб. Казалось, он наклонялся к ребенку и гладил его по головке. А потом растворялся, никому не причинив вреда. По прошествии девяти дней после смерти женщины призрак перестал появляться. Наверное, как пишут, душа претерпела дальнейший распад и пустилась в новые земные странствия — до сорокового дня.
Анастасия тоже ощущала эти барьеры: девять дней, сорок… Она чувствовала присутствие ребенка, словно он все еще толкался у нее в животе. Она ощущала, что под ее сердцем бьется еще одно, крошечное сердечко…
— Анастасия Филипповна, я разморожу мясо?
— Да, разморозьте…
— Может быть, вы спуститесь, я хочу обсудить с вами меню.
— Хорошо, сейчас спущусь…
Ах, как она ненавидела лестницы! Всей своей измученной душой!
И вот она готова к приему гостей. К первому приему с тех пор, как… Каштановые волосы гладко зачесаны, высокий лоб открыт. С такой прической Настя напоминала венецианок со старинных портретов. Платье цвета торжества и траура. Колготки с бархатной набивкой на щиколотке — тоже черные, но тончайшие, а потому очень нарядные. И туфли. Те самые, итальянские, с каблуком рюмочкой и пряжкой. Она была в них, когда познакомилась с Евгением. Будь он неладен, тот день, когда она испортила жизнь хорошему человеку, вкрутив его, как в мясорубку, во все свои злоключения.
А ведь они могли быть так счастливы, если бы… Может быть, кто-нибудь наложил на нее проклятие? Может быть, нужно нанести визит ясновидящему? К Игорю? Но ведь он и так увидел бы, узрел подобную „печать“ на ее судьбе. И сказал бы.
Нет, это не проклятие, а сама судьба…
— Настенька, как ты замечательно выглядишь! Ну просто мадонна! — Настя не слышала, как вошел Евгений.
— Нет, Женя, мадонны из меня не вышло…
— Прости, я не сообразил. — Он смутился.
— Ничего, бывает…
В последнее время Настя чувствовала себя так, словно лишилась какой-то оболочки, тонкого хитинового покрова. Ее душу больно ранили, казалось бы, самые безобидные слова.
— Ребята вот-вот подъедут.
— Так кого же ты все-таки пригласил?
— Увидишь! А стол вы приготовили замечательный.
— Это все Зоя Степановна. Я предлагала ей остаться и поужинать с нами, но она отказалась наотрез. Сослалась на то, что не одета к торжеству.
— Да, она ушла. Я встретил ее в дверях.
„Смена караула, — подумала она. — Сторожат, словно я не могу, закрывшись в спальне, тихонько отравиться или повеситься, несмотря на их недремлющие очи… Как глупо! Ведь себя страхуют, свою совесть спокойную, а не меня. И балерина потому все время меня окликает и тревожит. Кричит: „Спуститесь накрыть стол?“, а я слышу: „Вы там живы?“ Стол все равно накрывала она одна. А я только стояла и смотрела…“