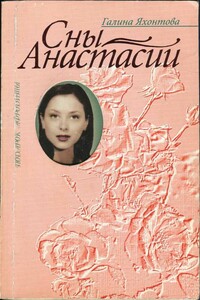Где-то в коридорах не унимался обычный шум и гам. Марина ушла раздавать „половую милостыню“. Хотелось есть. И Настя отправилась на кухню — варить суп из концентрата. Благо, назло юдофобам, Марина купила несколько пакетиков чудесного израильского грибного бульона. Подруги очень любили потреблять это блюдо прямо из чайных чашек вприкуску с черным хлебом.
За шаг до порога кухни Настя услышала любимый, родной, единственный голос:
— Катя! Они ничего не понимают, я…
„Да он же пьян!“ Настя замерла, не в силах ни сделать шаг вперед, ни повернуть назад.
— Успокойся, Ростик, ты гений, — лепетал незнакомый голосок.
— Этот Удальцов, этот старый импотент, завидует мне, что все бабы вокруг от меня торчат, — объявил Ростислав. И прибавил не так уверенно: — Правда, Катя?
— Правда, рыбочка моя.
От этой „рыбочки“ Настю замутило.
— Я читал им новые стихи, я читал даже то, что написал на той неделе. Ну, тебе посвятил… А они — ты насквозь искусственный, все моделируешь. Где же, где же правда? А, Кать? А?
— Пойдем в комнату, Ростик.
— Не пойдем! Я пойду в „Сибирь“!
— Какая „Сибирь“, рыбка, Володька к бабе в Химки уехал и дверь запер.
— Не может быть! Там дверь всегда открыта.
— Ну, хочешь, пойдем посмотрим.
— Хочу. — Он грубо выругался. — Пошли.
Настасья быстро нырнула в отпорочек коридора, охваченная любопытством, и, как дрянной мальчишка, стала наблюдать.
Опираясь на Катю Мышкину, студентку третьего курса, Коробов медленно перемещался в сторону лестницы, поддерживаемый своей спутницей. Катя, девушка в теле, дебелая и литая, нелепо выглядела рядом со стройной, как корабельная сосна, фигурой Ростислава.
Настя смахивала слезы, и они капали прямо в суп…
Где-то звенит золотого кольца
Тихое брачное счастье…
Прядь убираю ладонью с лица.
Тихая девочка Настя,
Дочка моя и мое естество,
Полусиротка, молчунья,
Прячет лицо за зеленой листвой.
Ходит в свету новолунья.
В год запоздалый ее принесу
В белых и теплых пеленках.
Спросят: откуда? Отвечу: в лесу
Девочка плакала звонко.
Плакала девочка, плакала я,
Плакали липы и клены,
Плакала жизнь — одиночка моя,
Плакал терновник зеленый…
Стихи возникали как будто сами по себе. И Настя вдруг поняла, что это пишет не она, а что строки приходят сквозь пока еще безымянную душу, которая в нее вселилась.
„Матери берут энергию у детей“, — говорил Игорь. Тот же Игорь утверждал, что у нее, скорее всего, будет сын. „Нет, дочка. Только дочка. Тихая девочка Настя“. На душе стало светлее, и Анастасия уже не чувствовала себя такой несчастной.
Евгений позвонил рано. В общежитии Настя стала чистопородной „совой“, поскольку шум и грохот утихали в этом здании только к утру. Несмотря на табу — записку со спасительным словом „Сплю!“ — на дверях комнаты, вахтерша настойчиво стучала в дверь.
— Настя! К телефону!
— Сейчас-сейчас, Анна Петровна, иду!
— Ты слишком-то не спеши. Приятель твой, ну, который звонил, о-о-чень вежливый, сказал, что перезвонит через пятнадцать минут.
Настя быстро натянула джинсы и свитер.
Общежитие было пустынно, как ночной клуб ранним утром. Лифты не работали. Чертыхаясь, она спустилась по лестнице. Звонок раздался, когда она оказалась в двух шагах от аппарата.
— Алло! Кондратенко? Вот она пришла.
— Слушаю. Да, я. После обеда? Кажется, ничего… А сейчас никак нельзя? Что? Во что вы едете играть? В гольф? Но на дворе зима… A-а, под крышей. Понятно. И я. Жду. Да, в три.
Анастасия положила трубку.
— Спасибо, Анна Петровна, что позвали.
— Опять у тебя, Настя, какой-то ненормальный, — вздохнула сердобольная вахтерша. — То этот — поэт, все глаза закатывал да поверх людей смотрел, то теперь вот другой — зимой в гольфах разгуливает. Где это видано?
— Да не в гольфах, а в гольф он играет.
— А по мне все одно. — Анна Петровна сделала рукой магический жест, словно отгоняя беса.
Евгений приехал, как и обещал — ровно в три. По нему можно было сверять швейцарские часы. Настя села в машину, и спустя несколько минут они уже приближались к Марьиной Роще.
— Настя, вы не обидитесь? — Он продемонстрировал свою замечательную улыбку.
— О чем вы?
— О том, что на заднем сиденье лежит несколько нетрадиционный подарок вам на новоселье.