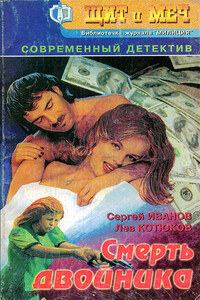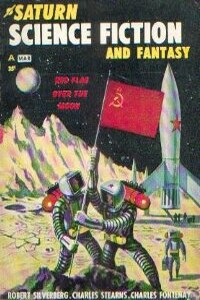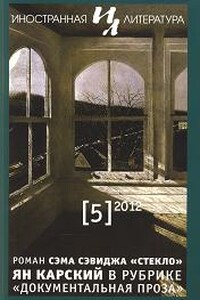Разум говорит: не стоит!
А душа?! А душа молчит.
– Как живешь-то? – спросил меня некто полупишущий, но исправно полнослужащий властям, прошлым и нынешним.
– Да почти что не живу… Разве можно теперь прожить на гонорары… – уныло ответил я.
– А на Западе никто не живет на гонорары! – с высокомерным, всеведующим назиданием сказал полнослужащий полуписатель и посмотрел на меня, как на пустой мешок из-под картошки.
Я не остался в долгу и без назидания, с доброй улыбкой, выдал:
– Вот и плохо, что даже на Западе не живут на гонорары! Раньше-то, худо-бедно, жили!.. И большие и малые писатели. И литература была… Вон как «Иностранкой», бывало, зачитывались! А теперь, видать, перевелись. Поэтому и некому там стало жить на гонорары. И мы – молодцы! – хоть в этой области сходу догнали Запад. Почти догнали… Скоро у нас совсем некому будет жить вообще, а не только на гонорары. Кроме таких, как ты!..
Полупишущий полнослужитель поморщился, с тревожным усилием напряг свое служивое брюхо, опасливо посмотрел на меня, как на мешок с противотанковыми гранатами, – и, не прощаясь, заспешил прочь.
Я без сожаления посмотрел ему вслед, – и мне тоже почему-то представился мешок, но не пустой, и не с гранатами, а полупустой, с подмороженной картошкой, который мы с Рубцовым поздней молодой зимою почти донесли до общежития.
Почему – почти?! До потому что дырявым мешок оказался, да и попал к нам совершенно нелепо.
Шли мы, не помню уже откуда, мимо Останкинского мясокомбината в тусклой декабрьской тьме. Мороз стоял лютый-прилютый, и мы спешили. Но не только из-за мороза, а чтобы успеть к пересменке вахтеров, ибо Рубцову после сессии было запрещено проживать в общежитии. А в суете пересменки легче было отвлечь внимание соглядатаев и провести его под родной казенный кров.
Не нужно думать, что вахтеры наши были бессердечными людьми. Очень даже сердечными, особенно женщины.
И вот идем мы вдоль кирпично-проволочной угрюмой стены мясокомбината, – и вдруг оттуда летит объемный тяжелый предмет и хрустко грохается в снег недалече от нас. А вослед за предметом со стены ловко спрыгивает мелкий неопозноваемый человек.
– Стой! Стрелять буду! – крикнул я.
Человечек всполошенно оглянулся, схватил было свою законную добычу, но, заслышав мое повторное беспощадное: «Стой! Застрелю, ворюга!», налегке бросился наутек и навеки исчез за темным обледенелым углом.
– Ну, живем! Можно поздравить нас с мясцом! – сказал я, наклонился и развязал мешок.
Каково же было наше удивление, когда вместо возжеланного мясца или, на худой случай, печенки, мы обнаружили в мешке грязную, твердокаменную картошку.
– Ну, зачем ты человека напугал?! И так у нас народ запуган до безобразия… – с укором сказал Рубцов.
– А какого же черта он с мясокомбината картошку тащит?! Пыльным мешком его, что ли огрели?! – угрюмо не согласился я. – Нашел, понимаешь, что тащить!
– Ну мало ли из чего теперь колбасу делают… – глубокомысленно заметил Рубцов.
– Ну, не совсем же уж из картошки! – возразил я.
– Не совсем. А людей все равно пугать не надо.
– Не надо! – согласился я, и спор наш погас, как спичка в метели.
Мешок с картошкой оказался дырявым, но, просыпая мелочь, мы все-таки доперли его до общаги. Но тайна нашей случайной добычи так и осталась за семью печатями. Впоследствии я хотел написать крутой рассказ «Кровавая тайна дырявого мешка картошки с Останкинского мясокомбината». Но ум мой уперся, как в каменно-проволочную стену, в безысходный тупик, – и творческий замысел не осуществлен по сию пору.
В общежитии мы поделились картошкой с дежурными. Она оказалась подмороженной, но и такая пришлась к столу – и вахтерши были на нас не в претензии. Я уже отмечал, что наши официальные соглядатаи в основном были сердечными людьми.
Но вот незадача: на вахте, якобы в ожидании междугородних звонков, постоянно околачивались остроглазые и остроухие активисты праведной жизни.
Иной раз сердобольная тетя Дуся, мир ее праху, нарочно строжала голосом: «Не пущу! И не уговаривай! У меня приказ!», но, лукаво кивнув в сторону какого-нибудь очередного внештатного «междугородника», тихо шептала: