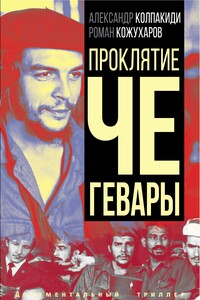Черная дыра. Как Европа сделала Африку нищей - страница 25
Указанная межафриканская торговля смогла уцелеть. Голландцы столкнулись с ней, когда в 1637 году захватили Аксим. Служащие Голландской Вест-Индской компании, действовавшей на «Золотом Берегу», старались полностью прекратить ее, и когда им это не удалось, попытались заставить народ Кот-д’Ивуара закупать определенное количество голландских товаров. Голландцы постановили, что каждый торговец на каноэ из Аксима, направляющийся к мысу Лаху, должен везти с собой их товары стоимостью минимум в 4 унции золота. Целью было превращение целиком внутреннего африканского обмена в европейско-африканскую торговлю.
Африканским попыткам объединить свои экономики был нанесен двойной ущерб, ведь когда европейцы стали посредниками в местной торговой сети, они сделали это главным образом для облегчения вывоза невольников и, таким образом, подчинили всю экономику европейской работорговле. В Верхней Гвинее и на островах Кабо-Верде португальцы и их потомки-мулаты были вовлечены в большое количество обменных операций, связанных с хлопком, красителями, «орехами кола»[88] и европейскими товарами. Все это чтобы наполнить трюмы кораблей для перевозки рабов. В Конго и Анголе наблюдается та же картина. Соль, раковины каури и пальмовый текстиль, поступавшие в руки португальцев, компенсировали нехватку их товаров и служили для закупки пленников в разных частях побережья и в глубине материка.
Элемент подчинения и зависимости является ключевым для понимания сегодняшней африканской отсталости: ее корни лежат глубоко, в эре международной [доколониальной] торговли. Стоит также заметить, что существует ложная, или псевдоинтеграция, камуфлирующая зависимость. В настоящее время она проявляется в формировании зон свободной торговли в бывших колониях. Эти зоны созданы для проникновения транснациональных корпораций. А начиная с XV века, псевдоинтеграция проявлялась в форме такой сцепки африканских экономик на больших расстояниях вдоль побережья, которая бы способствовала движению потока пленников и слоновой кости из отдаленного района к какому-нибудь порту на берегу Атлантического или Индийского океана. К примеру, невольники перевозились из Конго через территорию современных Замбии и Малави в Мозамбик, где их забирали португальские, арабские или французские купцы. Это не было подлинной интеграцией хозяйственных систем африканских территорий. Подобная торговля свидетельствовала всего лишь о степени иностранного проникновения, при том подавляя местную торговлю. Западноафриканская торговля золотом не была уничтожена, но, выбитая с северных путей через Сахару, стала полностью зависеть от европейских купцов. В поясе саванн Западного Судана транссахарская торговля золотом питала одну из самых развитых политических зон всей Африки на протяжении пяти веков. Но Европе было удобнее получать золото на западном побережье, нежели через североафриканских посредников, и теперь остается лишь фантазировать, что могло бы произойти в Западном Судане, если бы там на протяжении XVII и XVIII веков происходил постепенный рост торговли золотом. Тем не менее, есть несколько аргументов и в пользу африканско-европейской торговли конкретно этим товаром. Производство золота включает в себя добычу и упорядоченную систему распределения внутри Африки. В основном благодаря ему, вплоть до XIX века на землях аканов и в частях Зимбабве и Мозамбика существовали процветающие социально-политические системы.
Некоторые выгоды имелись и от экспорта слоновой кости. Ее добыча в то или иное время становилась самой важной деятельностью некоторых восточноафриканских сообществ, иногда в сочетании с торговлей пленниками. Танзанийские ньямвези были самыми известными африканскими торговцами, создав себе репутацию благодаря перевозке товаров на сотни миль между озером Танганьика и Индийским океаном. Когда ньямвези переключили внимание на импорт слоновой кости, это привело к некоторым позитивным изменениям, таким как увеличение объемов торговли с соседями мотыгами, продуктами питания и солью.