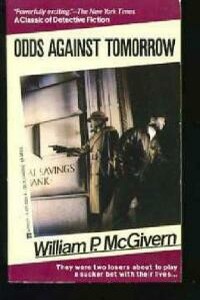Через несколько минут они разминали затекшие ноги у небольшого, но ладного, недавно отремонтированного домика, пахнущего хвоей. В комнате стояли две раскладушки, шкаф и столик с тумбочкой. Мазин выглянул в окно. Снежные вершины начало затягивать.
— Там бывают туры, — провел рукой вдоль хребта Борис.
— Можно получить лицензию на отстрел?
— Получить можно. Подстрелить труднее. Мясо я у Филипенко добываю. У него оленина не переводится. Между прочим, Игорь, ты тут не хвались специальностью. Скажи, что инженер или врач-педиатр, а то мы голодными насидимся.
— И это говорит юрист!
Игорь Николаевич покачал головой и, перекинув через плечо мохнатое полотенце, пошел к реке умываться. Небо потемнело, подул ветер. Мазин разделся до пояса и поежился, опустив руки в ледяную воду.
— Прохладно?
Это спросил, заметно окая, худощавый пожилой человек в большом берете, весь в крупных, будто вырезанных по дереву морщинах. Он опирался на сучковатую толстую палку.
— Прохладно.
Незнакомец прыгнул с камня на камень.
— Тут не Сочи. Все, что угодно, но не Сочи. А там, — он поднял палку над беретом, — тундра. Камушки, снежок, ледок. Откуда и спускается портящая настроение погода. Однако разрешите представиться: Кушнарев, Алексей Фомич, некогда архитектор. — Старик перескочил на ближайший валун. — По-видимому, встречаться придется. У Михаила Михалыча Калугина.
— Я незнаком с Калугиным.
— Неважно, несущественно. Природа сведет и познакомит. Уже сегодня, судя по грозе, которой не миновать.
И запрыгал дальше.
— Игорь! Где ты застрял? — крикнул Сосновский.
Мазин вернулся в дом, растирая полотенцем мокрые плечи.
— Архитектора встретил. Что за личность?
— Кушнарев? Постоянный гость Калугина. Друг юности.
Черно-синяя туча придавила ущелье. По тяжелому, переполненному водой брюху ее скользили седые клочья, но дождь еще не начался, только отдельные крупные капли, срываясь, постукивали по крыше, врываясь ударами в шум кипящей реки…
Неожиданно в открытую дверь шагнул парень с черной, давно не стриженной шевелюрой.
— Про крючки, конечно, забыли? — спросил он у Сосновского, не здороваясь.
— Крючки привез.
— Профессиональная прокурорская память?
— Я, Валерий, никогда не был прокурором.
— Все равно. «За богатство и громкую славу везут его в Лондон на суд и расправу».
— Что за манера говорить вычитанными словами!
— Может быть, не те манеры, может быть…
Сосновский пояснил:
— Это сын художника Калугина.
— Я догадался, — сказал Мазин.
— Догадались? Вы тоже прокурор?
— Игорь Николаевич — врач.
— Очень приятно. Не можете ли вы пересадить мне сердце? Скучно жить с одним и тем же сердцем. Особенно художнику. Потому что я не сын художника, как отрекомендовал меня ваш нетактичный друг, а сам художник.
— Непризнанный?
— Опять догадались, доктор. Что вы еще про меня скажете?
— Зря ершитесь! Непризнанный не значит бездарный.
— Попробуйте убедить в этом моего родителя! Впрочем, бесполезно. Мы странно спроектированы, доктор. Все видим по-разному. Что видите вы в этом окне? Горы? Деревья? Тучи? А я вижу крики души своей, спутанные вихрем, рвущиеся о скалы.
— Как поживает Михаил Михайлович? — прервал Сосновский.
— Вопрос, разумеется, задуман как риторический. Вы не мыслите родителя иначе чем в бодром времяпрепровождении, так сказать, в веселом грохоте огня и звона. А между тем последние дни он погружен в думы, что противоестественно для признанного человека. Хотел видеть вас. Зайдите, утешьте! И вы, доктор… Не забудьте скальпель. Вы обещали мне новое сердце.
Выходя, Валерий качнулся.
— Сердитый молодой человек? — спросил Игорь Николаевич.
— Доморощенный. Мажет холсты несусветной чушью, а считает художественным откровением. Позер, кривляка, паяц.
— Ты его, однако, не жалуешь.
— Зато папаша балует. Марина-то у Калугина жена вторая. А мать Валерия умерла. Сам Михаил Михайлович — человек мягкий, деликатный, выпороть парня как следует не способен. Родительская рука не поднимается. От этих поблажек один вред. Попомни мое слово, отмочит Валерий штучку! Ну да нас с тобой это не касается, на чужом пиру похмелье.
— Вот именно. Между прочим, я бы отдохнул с дороги.