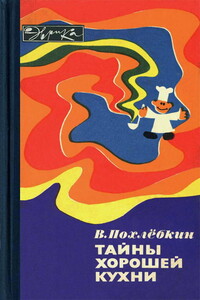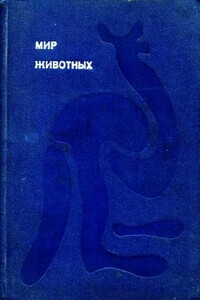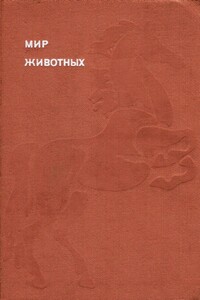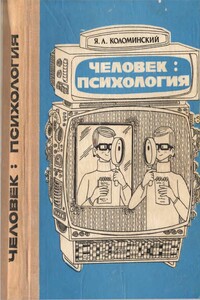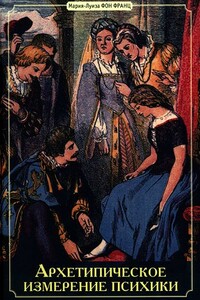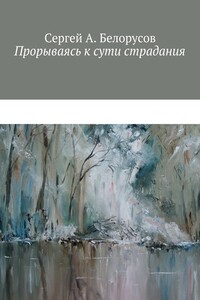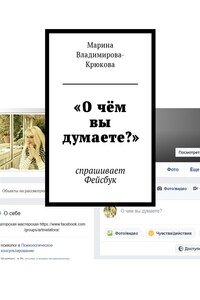Характерно, что именно от целей, от того, как направлена группа, зависят и ее внутренняя структура, и динамика развития.
Интересные данные на этот счет получил психолог из Курска Алексей Сергеевич Чернышов. Он сравнивал хорошо организованные группы подростков с различной направленностью: положительной и отрицательной — компании «трудных».
Оказалось, что при прочих равных условиях коллективы — группы с положительной направленностью — по сравнению с «просто» группами способны:
более эффективно решать серьезные коллективные задачи с ярко выраженным общественным содержанием;
межличностные отношения в этих группах приобретают характер взаимопомощи и взаимопонимания, эмоциональной совместимости и слаженности;
межличностные отношения носят здесь устойчивый характер. Даже неожиданные серьезные трудности не выбивают такой коллектив из колеи, не вносят дезорганизованности, апатии, раздражительности.
Как видим, морально-политическая направленность и единство не просто определяют маршрут движения, но органически обусловливают и само внутреннее «устройство» социального организма группы.
Недаром именно коллектив порождает у своих членов одно из важнейших качеств личности советского человека — коллективизм, является, как говорил Макаренко, «гимнастическим залом» для формирования личности. Коллективист — это человек, который воспринимает и переживает интересы коллектива как самые ценные и значимые для себя. Такой человек органически не в состоянии добиваться узколичных интересов ценою интересов коллектива.
К сожалению, у нас иногда смешивают коллективизм с выражением «группового эгоизма». Этому нередко способствуют различные непродуманные формы соревнования. Помню, в школе-интернате, где я работал, очень были распространены соревнования по чистоте между спальнями мальчиков и девочек. Однажды девочки моего класса во время уроков пробрались в спальню соперников и устроили там настоящий погром: разбросали подушки, насыпали мусор на ковер, передвинули тумбочки…
Или, например, такая сценка: в класс вбегает парнишка и радостно кричит:
— Ура! В шестом «Б» четыре двойки по алгебре!
Да, нелегко из группы воспитать коллектив. Ведь коллектив нельзя представить просто как еще один вид группы. Это к тому же и определенный, весьма высокий уровень ее развития, к которому мы стремимся. Группа не только должна иметь более или менее длительную историю, но у ее членов должна быть и общая цель, полезная для общества.
Это жутко —
прожить без выбора.
Это страшно,
Страшней всего…
Роберт Рождественский
…Человеку трудно с достаточной быстротой ответить «да» и «нет». А почему? Потому что самое трудное для человека — это сделать выбор. Даже самый маленький выбор для него — микротрагедия. А почему?..
Михаил Анчаров
Живые модели
Иногда обычное слово, которое совсем недавно произносилось без всякого почтения, вдруг наполняется необыкновенно богатым содержанием и совершенно преображается. Один из примеров тому — спутник.
Но, пожалуй, еще более важная метаморфоза произошла со словом «модель». Со страниц детских технических журналов, которые издавна учили своих юных читателей делать модели автомобилей, кораблей и самолетов, оно перекочевало на страницы научных трудов по всем отраслям знаний. И старое «моделирование» приобрело необыкновенно солидное звучание. Ну, вроде «кибернетика» или «квантование». Модель из игрушки превратилась в метод научного исследования.
Да, нынешнюю «модель» не узнать. Она предстает теперь чаще всего не в образе симпатичной маленькой копии какого-либо предмета, а в виде рядов многоэтажных формул, головоломных электронных схем и т. д. Мало этого, психологи выяснили, что само наше знание об окружающем мире, да, собственно говоря, весь наш внутренний мир, вся наша психика — тоже не что иное, как модель этого мира.
Детская игра тоже фактически моделирование. Ребенок строит в своей игре модель «взрослой» жизни и с ее помощью овладевает правилами и нормами этой жизни. Эту особенность игры тонко подметил еще Александр Сергеевич Пушкин. Помните, как он писал в «Евгении Онегине»: