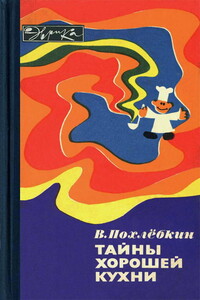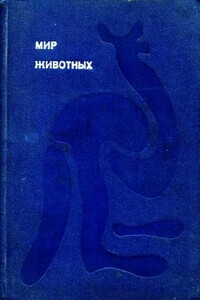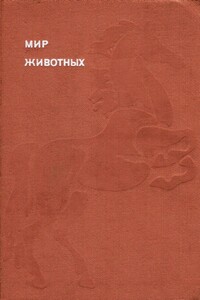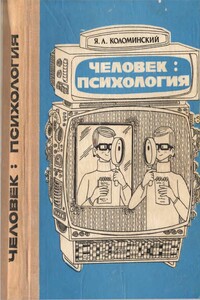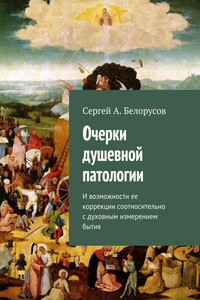Теперь, когда дискуссионные страсти улеглись, мне даже как-то не совсем понятно, почему мы так запутали проблему, которую с таким блеском решил Антон Семенович Макаренко почти сорок лет назад. Недаром Антон Семенович Макаренко, с чьим именем привычно связываются такие определения, как великий педагог и выдающийся писатель, теперь признан во всем мире и как крупнейший социальный психолог. Характерно в этом отношении замечание профессора Ю. Бронфенбреннера: опыт Макаренко превосходит все то, что дали западные социальные психологи за последние тридцать лет.
Прежде всего Макаренко резко возражал против смешения понятий группы и коллектива. Конечно, всякий коллектив — это группа. Но не всякая группа — коллектив. Чтобы стать коллективом, группе надо пройти непростой путь развития и на этом пути приобрести целый ансамбль признаков и качеств.
Что же делает просто группу коллективом?
Известный исследователь тридцатых годов Залужный отвечает на этот вопрос так: «Мы называем коллективом такую взаимодействующую группу лиц, которая выявила свою способность совокупно реагировать на тот или иной раздражитель или на целый комплекс раздражителей».
Выходит, и наши соседи по купе — тоже коллектив? Ведь они будут «совокупно реагировать», если, например, в вагоне вдруг внезапно погаснет свет или произойдет еще что-нибудь неожиданное.
Недаром Антон Семенович едко высмеивал подобные определения. «Для всякого непредубежденного человека, — говорил он, — очевидно, что это определение коллектива лягушек, обезьян, моллюсков, полипов, кого хотите, но только не коллектива людей…
Коллектив — это есть целеустремленный комплекс личностей, организованных, обладающих органами коллектива. А там, где есть организация коллектива, там есть органы коллектива, там есть организация уполномоченных лиц, доверенных коллектива, и вопрос отношения товарища к товарищу — это не вопрос дружбы, не вопрос любви, не вопрос соседства, а это вопрос ответственной зависимости» (подчеркнуто мною. — Я. К.).
Некоторые на основании подчеркнутой части макаренковского определения думают, что Антон Семенович вообще игнорирует личные отношения между членами коллектива и сводит все к «ответственной зависимости». Достаточно прочитать одну только «Педагогическую поэму», чтобы понять, что дело обстоит совсем иначе. Как никто другой, умел он учитывать при организации коллектива и дружбу, и любовь, и соседство, и еще многое другое.
Вспомните хотя бы одну из деталей завоевания Куряжа.
«Комсомольцами, — пишет Макаренко, — замечательно были составлены новые отряды. Гений Жорки, Горьковского и Жевелия позволил им развести куряжан по отрядам с аптекарской точностью, принять во внимание узы дружбы и бездны ненависти, характеры, наклонности, стремления и уклонения. Недаром в течение двух недель передовой сводный ходил по спальням.
С таким же добросовестным вниманием были распределены и горьковцы: сильные и слабые, энергичные и шляпы, суровые и веселые, люди настоящие и люди приблизительные — все нашли для себя место в зависимости от разных соображений».
Как видим, Антон Семенович великолепно владел сложным искусством комплектовать отряды с учетом психологической совместимости, хотя в то время этого понятия еще, кажется, вообще не существовало. А в своем определении первичного коллектива он прямо подчеркивает наличие здесь и деловых, и личных взаимоотношений. «Первичным коллективом, — говорит Макаренко, — нужно назвать такой коллектив, в котором отдельные его члены оказываются в постоянном деловом, дружеском и идеологическом объединении. Это тот коллектив, который одно время наша педагогическая теория предлагала назвать контактным коллективом».
Но коллектив — это не просто хорошо организованная группа, в которой имеется система ответственной зависимости, органы управления и т. д. В конце концов и в банде может быть и четкая организация, и система зависимости. Однако это не коллектив.
«Коллектив, — писал Антон Семенович Макаренко, — возможен только при условии, если он объединяет людей на задачах деятельности, явно полезной для общества».