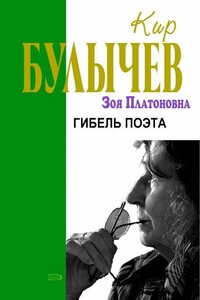Артем и генеральный секретарь прошли за портьеру, которой кабинет первого лица государства был отделен от другого помещения. То оказалось довольно обширным. Все стены открывшегося взору Казарина небольшого зала были сплошь увешаны картинами. Разнокалиберные полотна висели рама к раме, столь плотно, что за ними невозможно было разглядеть ни кусочка стен. Артем довольно слабо разбирался в искусстве, из которого выделял лишь три направления: ранний репрессанс, поздний реабилитанс и неорепрессионизм. Однако даже он обратил внимание, что среди картин нет ни одной, написанной в русле не то что социалистического, а хотя бы просто реализма. Со стен перед Казариным кривлялись какие-то деформированные морды, а еще чаще встречался просто хаотичный набор цветовых пятен и геометрических линий. Артем в недоумении уставился на Андропова: для чего он ему все это показывает? Затем его взгляд упал на одно из полотен, которое показалось смутно знакомым. На небольшом, площадью меньше квадратного метра, картоне, заключенном в скромный багет, была изображена кричащая человеческая фигурка, и столько отчаяния было в ее крике, что, казалось, весь окружающий мир — и кроваво-красный закат, и далекое озеро с лодками, и мост, на котором стоит крикун, — все это сейчас засосет черная дыра перекошенного в немом крике рта. Казарин решился нарушить затянувшееся молчание:
— Эдвард Мунк[13], кажется? Я в этом, честно говоря, мало что смыслю, но, по-моему, у вас отличная копия.
Андропов нацепил на нос очки, внимательно, будто видел его в первый раз, осмотрел полотно и неожиданно сухо расхохотался, но тут же закашлялся:
— Копия? К вашему сведению, молодой человек, я не собираю копий! Это в Национальной галерее Осло висит превосходная, выполненная лучшими специалистами КГБ подделка! А вы имеете счастье полюбоваться самым несомненным подлинником, которого касалась кисть гениального живописца! Капиталисты крадут сокровища искусства у пролетариата своих стран, а мы лишь немного поспособствовали восстановлению социальной справедливости…
Артем не нашелся, что на это сказать, и лишь зачем-то погремел мелочью в кармане пиджака — это все, что осталось от его суточных в сумме 54 копеек, которые он называл «шуточными», после завтрака в вокзальной столовке. Андропов меж тем продолжал, и слабый старческий голос его стал набирать силу:
— Иностранцы меня часто спрашивают: почему я, лидер советской державы, где впервые в истории человечества выработался стиль социалистического реализма — высшего достижения искусства, по мнению советских критиков, — тем не менее бесконечно влюблен в абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм и прочие буржуазные «измы»? В западной прессе меня за любовь к «заумному» искусству и коллекционному вину даже называют «жандармом в смокинге»! Этим придуркам невдомек, что «смокинг» тот пошит из потертого лапсердака моего дедушки, еврейского ювелира Карла Флекенштейна!.. Впрочем, не будем отвлекаться. Почему же мне так по душе именно современное искусство? Слышали анекдот? Какая разница между сюрреалистом, реалистом и соцреалистом? Сюрреалист пишет то, что ощущает, реалист — то, что видит, соцреалист — то, что слышит… Но это, конечно, шутка. На самом деле все гораздо проще и гораздо сложнее одновременно. Античное искусство обращается к чувствам, Средневековое — к вере, искусство Ренессанса и все, что было после, вплоть до начала двадцатого века, — к разуму… И лишь модерн — впервые! — апеллирует к подсознанию человека! Это наивысшее достижение из возможных! Меня всегда интересовало именно подсознание человека — сначала как шефа небезызвестного вам Комитета Госбезопасности, а затем даже еще сильнее — как лидера Советской державы. Ничего не поделаешь, приходится выполнять роль ловца душ человеческих… — Андропов тяжко вздохнул, сдернул с переносицы очки и потер красные от недосыпа глаза.
— Вот, взгляните сюда, товарищ Казарин! — продолжил он, указав на соседнее полотно, на котором был изображен еще один крикун, только сидящий в кресле и облаченный, кажется, в платье священнослужителя. — С этим произведением вы точно не знакомы. Фрэнсис Бэкон