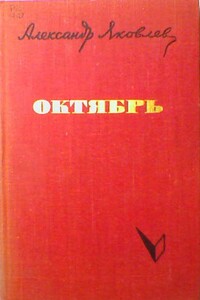— А это что червяком вьется?
— Иргиз. Вот на нем и наша Маяньга.
— Ишь, сразу как на ладони!
Помолчал, погладил бороду.
— Да, пустыня была — мы завладели. Вот и чугунка пойдет. А то, бывало, верблюды, лошади, быки тянутся по степи, а снег по брюхо. Хохлы, казаки, мужики — народ новый пошел здесь. Немцы еще…
— Папа, ты любишь немцев?
— Не люблю, сынок! Немцы только себе хороши. А до других им, что до прошлогоднего снега. Не соседский народ, не компанейский. Землю самую хорошую занимают и работают ничего, а вот не лежит к ним душа. Полтораста годов на нашей земле живут — ни сами не разбогатели, ни другим пользы от них никакой. Даже русскому языку за это время не научились, вроде за каменной стеной живут. Как зима — так гурьбами по миру к нам же идут. «Милостинка, Криста рати». Не люблю!
— А хохлы, папа?
— У, это народ старательный. И чистяки. А вот казачишки по Уралу, глядел я, — лентяи несусветные. Пороть бы надо!..
Витька задумчиво глядел на карту. Полосами: по Волге — немцы, по Уралу — казаки, и ни тех, ни других отец не жалует.
И мать вот, как говорит про немцев, сейчас губы брезгливо сожмет.
— И утром и вечером ноют: тню-тню-тню…
— Это зачем?
— Богу так чудно молятся.
Бабы-приживалки — они всегда возле матери — брезгливо сморщатся, поплюют.
— Ух, пакости дьяволовы! Уж чего — трубку не выпускают изо рта.
Верно, это и Витька заметил: трубка с вонючим каучуковым длинным чубуком всегда во рту торчит. Даже зуб — передний резец — нарочно ножом вырезан, чтоб чубук лучше держался.
— Тню-тню-тню!..
— Ну, мать, ты уж очень! Все же народ трудовой. Видала, как работают? Больше лошадей! И непьющие. Ежели пьют, так без шуму и бойла.
— Не-ет, наши русские лучше!
— Не знаю, у немцев в избе чистота, ковер постелен, а у наших коровы в избе.
— А по миру к нам!
— Ну, это же не все, чать…
— Тню-тню-тню!..
Это молитва.
Жалко, что у Жильяна нет про то ничего, как относиться к немцам…
Уже пятый класс. Уже на выросте. И отец стал звать Витьку Виктором, — жизнь идет.
Колька Пронин начал мазать свои волосы фиксатуаром, и еще человек пять за ним, пока инспектор не погрозил карцером. И перед зеркалом в коридоре нет-нет и бросят тайный взгляд: красив ли я? И руки, глядишь, вымыты чистым-чисто. Бляха на поясе блестит, блуза складочками собрана на спине, а на груди и на животе — ни одной складочки. И в разговорах замелькало слово «девчонки», и уже без презрения, как это было прежде, вот с полгода-год назад. Полкласса записалось к учителю танцев, что приходил два раза в неделю — по вторникам и пятницам — после четвертого урока. Витька попробовал танцевать — чудно что-то, вроде стыдно; потоптался, бросил. А девчонки? И для него это слово вдруг обрело новый смысл. Все шутят, говорят о них как-то намеками, с улыбками. Тут задумаешься! Сначала немного непонятно:
— Почему все об одном?
Даже скромница Колоярцев, даже горбун Мурылев, даже Ванька Краснов — лентяй, надоеда, ходит всегда вразвалку, ноги везет, словно сто лет ему, — а тоже и они:
— Девчонки!..
И Жильян вот. Жильян имел Дерюшетту. Пусть Дерюшетта принесла ему смерть, но любил он ее и только ради нее совершил свой подвиг — победил море, победил чудовище, — ради нее. И потерять Дерюшетту — значит умереть.
Что же, Дерюшетта у каждого?
Какая же она, вот его, Витькина, Дерюшетта? Он думал мучительно, и в думах сладко томилось тело. Дерюшетта!
На улицах он украдкой, по-воровски, всматривался в лица гимназисток, таких загадочных и недоступных. Искал Дерюшетту. И чувствовал себя смущенно, связанно. И мучительно думал:
«Кто же полюбит такого хмурого, большелобого, с суровым лицом?»
Реалисты готовились к декабрьскому ученическому вечеру, на который каждый мог пригласить знакомую гимназистку.
Пронин и Смирнов были избраны распорядителями от класса, им инспектор передал билеты. И вот Пронин, громко так, при всем классе:
— Авинов, ты берешь?
— Андронов, ты берешь?
Витька вдруг покраснел малиной и ответил басом:
— Беру.
Товарищи захохотали.
— Ну, как же? Обязательно берет! У него зазноба.
— Никакой зазнобы нет. Я двоюродной сестре отдам.
— Врет! Ей-богу, врет! У него нет двоюродной сестры. Врет!..
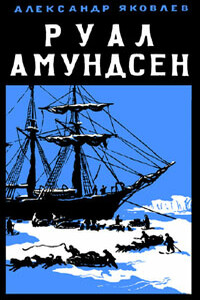
![Сквозь льды [Повесть о полярном исследователе Р. Амундсене]](/uploads/books/images/88/881fbf26eb5720fdc72c05d52001f053abbf089c.jpg)