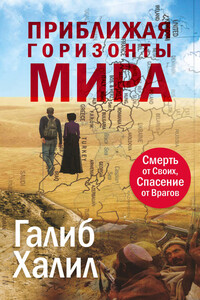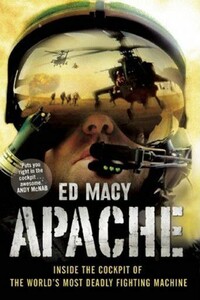А вот вокруг служили друзья-лейтенанты, в каждом бою лезущие в первую шеренгу и готовые погибнуть, особо не огорчившись. И я сравнивал их с теми пограничниками, которые ради престижа службы готовы войти по пояс в море. Да-да, основная масса воевавших даже не ведала, что могла потерять вместе с жизнью.
А я уже знал. Я глотнул той влаги, которая пьянит и дурманит. Я знал, куда и к чему можно вернуться. Я уже не хотел терять даже память о том вечере с Ниной – о, какое блаженство отыскивать и согревать дрожащую женщину в наспех наброшенных одеждах!
И я стал осторожен, как лис, и беспощаден, как барс, к тем, кто мог бы и хотел убить меня. И мой орден Красной Звезды – именно за выживание, а не за особую храбрость в той войне.
И я выжил.
Но вдруг оказалось, что в душе поселилась не только тайная радость от этого. Запихиваясь в военно-транспортный самолет, вывозивший нашу замену в Союз, глядя в иллюминатор на провожавших и не находя среди них никого, кто бы пришел проводить меня, я ощутил и дикое паскудство в душе. И признался наконец в давно понятом – все-таки я предавал тех лейтенантов и капитанов, которые в бою думали о бое, а не о собственной шкуре. И потому правильно сделали, что не пришли к самолету. На войне трудно что-то скрыть, еще сложнее притвориться. И если меня сберегли для этой жизни лунная дорожка на женском пляже и Нина, то именно они же и заставили презирать себя.
– Возвращайся, – шептала как заклинание Нина в тот вечер у себя в квартире. – Возвращайся и найди меня.
– Теперь вернусь, – уверенно отвечал я, тогда еще не зная, что потом, всякий раз вспоминая афганскую войну, буду ненавидеть себя. Хотя ни в чем не виноват.
Я вернулся, но к Нине не поехал. И от путевок в тот санаторий каждый раз категорически отказывался.
* * *
Материал про женский пляж журнал не напечатал. Начались выборы, женщины полезли в политику, в редакционной почте нашлось письмо какой-то истеричной демократки с призывом оставить кастрюли как пережиток коммунистического бреда и идти на баррикады светлого демократического завтра. Новый шельф, на разработку которого поехал уже не я.
Я продолжал мотаться по гарнизонам, полигонам, аэродромам и прочим военным точкам. С грустью отмечал: чем больше бушевали митинговые страсти в Москве, тем угрюмее становились лица солдат и офицеров, дырявее их одежда, скуднее пища, холоднее казармы. Несмотря на все уверения властей, светлое демократическое завтра переросло в послезавтра, в ближайшее будущее, в перспективу, в прогноз, в мечту. Разрушалось все, строилось лишь благополучие немногих «новых русских». Пир во время чумы…
Иногда натыкался на записи, сделанные у Зарембы в спецназе. Даже послал ему подготовленный к печати рассказ. Но ответа не дождался: наверняка подполковник носился по большим и малым войнам, взахлеб глотавшим российских парней. Время от времени пытался угадать, где он тянет свою солдатскую лямку.
Оказалось, совсем рядом, в Балашихе. Телефонный звонок от него раздался совершенно неожиданно. С одной стороны, стало неудобно, что материал не увидел свет, а с другой – я обрадовался, что спецназовец жив. Торопливо напросился на встречу.
– В шесть утра на автобусной остановке около КПП дивизии Дзержинского, – сразу согласился тот, правда, не поинтересовавшись, каким образом я доберусь в такую даль в такую рань.
Добрался. И сразу узнал в одетом в камуфляж подполковнике героя некогда «неразработанного шельфа». Он тоже взглянул на меня наметанным глазом, оценил полевую одежду и тут же, особо не вдаваясь в воспоминания, перебросил в бронетранспортер, урчавший за автобусной остановкой.
– На полигон, – приказал водителю.
БТР оказался забитым людьми. Мне молча кивнули, потеснились, высвобождая местечко. Поддавая нам всем под зад, боевая машина помчалась по лесным дорогам, словно желая взбить из нас масло. Наше счастье, что путь оказался не долгим.
– Я чего тебя позвал, – отвел меня в сторонку Заремба уже на полигоне, когда вылезли из железного чрева и разминались после дороги. – Помнишь свой женский пляж?
Пляж был его, но я кивнул.