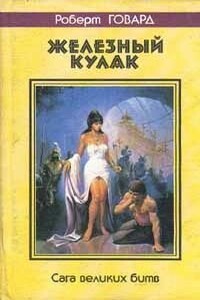Спиридон услышал шипение. Скосил глаза. Бездомный бурый кот, горбом выгнув спину, жался к стене. Ему мешали шествовать дальше ноги Спиридона. Кот дергал клочкастой шкурой спины, злобно месил лапами.
Драч подогнул колени. Кот взвился пружиной, черканул воздух когтями, пошел мерить булыжник куцыми махами.
Спиридон смотрел вслед. Горбатая спина удалялась толчками, хвост мотался ершистой палкой. Спиридон прикрыл глаза. Стена опять поползла на него. Он прислушался. Где-то рядом дробилась турецкая речь, взвизгивал женский голос, шипели примусы, тек прогорклый чад оливкового масла. Непонятно и страшно оживала к вечеру чужбина. Она наваливалась и гнула Спиридона к порогу.
Он открыл глаза. Серая стена все так же стояла на пути. О нее тупо ломался взгляд. Будто никогда не было на свете полноводного разлива Терека, горячего трепета фазаньего подранка в руках и жгучей росяной мокрети на босых ногах поутру, будто не льнуло к груди родимое молодое тело Марьямки в серебряном разливе белолиственниц на тайных свиданиях, не кипело половодье свадьбы в чеченском ауле, будто не спаялись в кровном родстве казацкая фамилия Драчей с чеченским родом Ахушковых.
Прожег, проджигитовал по жизни казачий вахмистр Драч, жадно подхватывая на скаку все заманчивое, что попадалось на пути: росяные рыбалки на зоревом Тереке и призы за джигитовку, лычки за усердную службу и красавицу Марьямку. Надо было — рубил шашкой лозу на учениях, тянулся струной, ел глазами господ командиров; сеял и жал духовитую, ломкую в спелости рожь; плел вентеря и мастерил дуплянку-скворечник.
Но вот хищно загуляла, замела по России пороховая метель войны, а потом революции и снова войны, подхватила Драча горячим крылом, завертела в кровавой полковой круговерти.
Намахался он шашкой до одури, усох и закаменел сердцем в тоскливой неизбежности службы, а когда опомнился — вдруг выросла перед глазами вот эта серая стена, плюнь — влипнет плевок в ноздреватую ее твердь. И никак не понять до сих пор — какая же дьявольская нещадная сила зашвырнула его сюда, в Турцию, и чего Драчу от нее, трижды проклятой, надобно.
Он убегал от войны, а она размахнулась смрадным крылом на полмира. И здесь волокли на носилках по городу трупы, и тек по Константинополю тошнотворный дух мертвечины.
Мелькали под палящим небом фуражки, кокарды, погоны, хрумкали офицерские сапоги. И никому не было дела до мужицких разлапистых рук Драча, истосковавшихся по настоящей работе.
Вплелся в уличную звуковую сумятицу четкий цокот подковок. Приблизился, стих у самых ног Драча. Он поднял голову: рядом подрыгивал острой коленкой турецкий офицер — серо-зеленый френч, галифе и шелковая чалма. Стоял, жег Драча пронзительным, немигающим взглядом.
«Обойдешься, ваше благородие, перешагнешь», — тихо зверея, подумал Драч. Сполз задом с порога на теплый камень, пошире раздвинул ноги — перегородил улицу совсем. Турок ждал.
— Ну?! — тихо рыкнул Драч. — Чего пялишься, турецкая морда? Проходи.
У турка по лицу — пронзительная усмешка. Остановил правую коленку, задрыгал левой. Заложил руки за спину и утвердился на расставленных ногах; длинноногий, надменный — не прошибешь.
Они виделись не раз. Турок шастал мимо ежедневно: утром — вверх по улице, к казармам, шагистике, воющим чужим командам, вечером спускался обратно, — видимо, к жилью. Мерил, голенастый, булыжное ущельице между каменных стен истинным хозяином.
Драч подобрался при первой встрече, вытянул руки по швам — служивая въелась привычка. Турок, не сморгнув, не колыхнув чалмой, верблюдом прошествовал мимо. Сплюнул Драч вослед, обложил полушепотом, тая обиду: «Ну и... с тобой». Больше при встречах не тянулся, турок не видел в упор.
Теперь увидел.
— Проходи, говорю, от беды подальше! — рявкнул Драч, набухая, ярясь тоскливой злобой. — Мы вашим-то кобелькам-янычарам смочили курчавину на башке под Шипкой, забыли, как это делается, небось деды не пересказывали?
Трубно играл голосом Драч, цепко присматриваясь к острым коленкам турка; ей-ей, не сдержится офицерик — больно норовистый, захочет сапожком ткнуть, размахнется... а вот тут опередить надобно — коленки руками охватить, а потом головой в живот, так, чтобы чалма беленькая по булыжнику покатилась. Ах, как хотелось поволтузить холеной мордой турка по мостовой, вымещая на ней всю ярую горечь, удавкой захлестнувшую горло! А там семь бед — один ответ, потом хоть под расстрел.