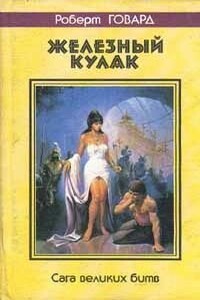— Когда хочешь взять Фаризу? — бесстрастно спросил Митцинский.
Ахмедхан вздрогнул: ну вот и свершилось. Все стало на свои места. Из мокрой от слез щетины старика, из рук его, цеплявшихся за землю, возродилась Фариза. Жена. Она возникла, выросла как золотой початок на стебле — из коровьего кизяка и земли. Вот и объяснилось все, что гноилось и ныло в душе, обрело свой смысл. Так, может, есть свой смысл и во встрече с немцем? Надо только раскрыть его... Ну-ка, напрягись, умный хозяин.
— Возьму Фаризу утром, — сказал Ахмедхан. Кашлянул натужно, помедлил, добавил: — Поеду повидать немца Курмахера и возьму Фаризу с собой.
— Кого? — спросил Митцинский. — Ты сказал: Курмахера?
— Ты его помнишь? Мы взяли у него сейф в цирке, когда я помял чемпиона Брука, — трескуче-выжидающе засмеялся Ахмедхан, не спуская с хозяина глаз. — А сейчас немец служит Советам Веденской крепости, стережет их оружие и порох. Он отзывается на кличку Завхоз. Ты не хочешь передать ему салам?
И когда пронзительно, слепяще стали светлеть глаза хозяина, отражая напряженную работу мысли, понял мюрид: сработало и это! И здесь таился свой высший смысл. Молодец Осман, понял, что нужен ему жадный немец-завхоз, который сидит на порохе и винтовках в крепости.
— Еще ни один двуногий, кто отирался рядом со мной, не принес мне столько пользы, как ты, — сказал Митцинский. — Я недаром массировал твою спину и учил борьбе. Ты взял от жизни и Петербурга сколько тебе положено, ни больше ни меньше. Если у тебя родится сын, я сам сделаю ему обрезание. Старайся, мой мальчик, трудись завтра не жалея сил.
«Сегодня не убьет, — понял Ахмедхан, — если убьет, то не скоро».
— Приходи вечером. Я должен обдумать твою встречу с Завхозом, Фаризе я скажу все сам.
— Ты пойдешь завтра с Ахмедханом, — сказал он Фаризе.
— Куда? — не поняла сестра.
— Пойдешь его женой. Прости. Так надо. Нам, Митцинским, надо, Дагестану и Чечне — нашей родине.
Она смотрела на брата, и зрачки ее расширялись, они пульсировали в своем учащающемся ритме, и ему казалось, что они вот-вот взорвутся, как две черные, круглые гранаты, и разнесут вдребезги ее прекрасное, полотняно-белое лицо.
Не в силах больше вынести ожидания этого, он отвернулся и почти выбежал из комнаты. Он ушел, захлопнул за собой одну, вторую, третью дверь, когда его настиг и слабо толкнулся в спину придушенный крик.
Неторопко, устало входило стадо в красный от заката Хистир-Юрт. Золотая кисея пыли выткалась над дорогой. По пыли, по сухой траве шлепал босыми ногами пастух Ца, и были его ноги темны. Они ступали, не остерегаясь, на всякое: будь то корявый сук или затаившийся в пыли булыжник. И никак не отражалось это неудобство на отрешенном лице пастуха. Сухо было у него в горле, покойно и сумрачно на душе. Ну а подошвы босой ноги... на них впору подкову приколачивать. Однако же и здесь был свой предел. Споткнулся пастух о камень, поморщился, с некоторым удивлением разглядывая предмет на дороге, что нарушил его раздумье. Переступил босыми ногами, поддел одну из них под камень, приподнял и покачал, убаюкивая булыжник на пальцах. А утвердившись прочно на одной ноге и отведя другую — с булыжником — назад, запустил им в придорожный куст, как из пращи. С треском продырявил маленькую крону камень — снарядом прострелил. Горазд был пастух на эдакие броски.
Свисали стеклянные нити слюны с буйволиных морд. Проточили темные дорожки по буйволиным ногам молочные струи — благодатным бременем молока набухло каждое вымя.
Ца вытянул из-за пояса рог, поднес к губам. Взревела звонкая кость, расскакалось эхо по отрогам гор.
Руслан Ушахов, прикорнувший в ожидании стада за валуном, вздрогнул и открыл глаза. Валун все еще теплился, струил напитанное за день тепло. Руслан встал и вышел навстречу стаду. Пастух обнял племянника. Стояли, не торопясь роняли слова.
— Салам алейкум, дядя.
— Ва алейкум салам, племяш. Был дождь, стучал ночью по моей крыше, а она отряхивалась, как гусь, ни одной капли в дом не пустила. Мы с тобой славно над ней поработали. Как отец?
— Ему легче?
— А Мадина?
— С ложки кормлю. Сама не встает, не говорит.