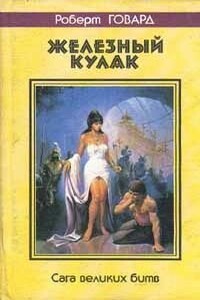Заколыхались зрители, трещиной раскололо толпу: протискивались к полю Быков и Митцинский.
И здесь увидел вновь Аврамов, как опять мелькнуло в разломе трещины знакомое лицо: заросло бородой, папаха на самые глаза надвинута. Увидел и вспомнил: Хамзат!
Митцинский с Быковым пробрались сквозь толпу. Им уступили место на единственной скамейке. Аврамов пальцем поманил Каюмова. Тот перебрел поле, увертываясь от игроков. Аврамов попросил вполголоса:
— Петр Федотыч, выручи, брат, посуди с десяток минут, мне отлучиться надо. И вот что: пришел Митцинский, как-никак член ревкома, почетный гость. Пусть хоть символически по мячу стукнет, освятит, так сказать, ножкой. Соображаешь, какой волнительный эффект получится? Ну, давай! — смотрел на Каюмова настырно, в упор, подрагивая щекой со шрамом.
— Прошу товарища Митцинского к мячу! — воркующе, заливисто позвал Каюмов, сообразил, что, видно, очень понадобился чекисту этот удар — один символический удар в рабоче-крестьянском состязании. — Попросим, товарищи!
И первым захлопал. Митцинский встал, пошел через все поле к мячу. Аврамов — ему навстречу, поравнялись, обменялись взглядами. Аврамов пробрался сквозь игроков к скамейке с Быковым, сел на траву рядом, опираясь спиной о его сапог, сказал ему что-то на ухо. Митцинский увидел — заныло сердце. Ударил по мячу, вернулся на место, сел рядом с Быковым. Быков молчал, смотрел на поле. Митцинский догадался: Аврамов принес худую весть. Может, напрасно выпустил Быкова со двора? Решаться надо было, раздавить гномика там же, у себя, как хорька в курятнике... что-то он там вынюхал, сердце чуяло: не простым гостем выходил за ворота — камень за пазухой выносил. Рассиропился, поверил посулам... Кому поверил?! Терзался Митцинский, прикидывал: может, сейчас не поздно? В толпе достаточно мюридов, схватить, в бараний рог свернуть всю их глазастую, остроухую компанию, пока толкутся на поле без оружия... взять всех заложниками и уйти в горы, там продолжить дело...
— Осман Алиевич, — вдруг ворохнулся сбоку Быков, — вот такая ситуация лохматая... Аврамов тут сказал мне, что в толпе Хамзат. Что делать будем? Ты хозяин. Решай.
Отходил, отмякал Митцинский. Вот оно что. Приметили Хамзата. Ну это не проблема, это — благая весть, коль Быков решил на Митцинского облокотиться, позволил решать судьбу Хамзата. Не усидел Хамзат в своей норе, на многолюдство потянуло, на веселье. Заляпан кровью Ушаховых, повязан был в вагоне, дважды получал приказ через муллу — не высовываться, выжидать. Не усидел, однако. Ну что ж, сам виноват.
Митцинский наклонился к Быкову, спросил:
— Допустим, здесь повяжете. И что? В расход?
— Не здесь, конечно. Увезем к себе. Негоже хищника на расплод оставлять.
— Весь праздник насмарку пойдет. В селе его жена и дети.
— А что ты предлагаешь?
— Если он с повинной явится, тогда как?
— По указу таким суд. Его грехи на многое потянут.
— Вот что, Быков, доверяешь — оставь все как есть, не порти праздник. ЧК устроит, если он явится с повинной?
— Лихо. Один, без нас сможешь?
Митцинский наклонился, вонзил в Быкова косящий взгляд, сказал, подрагивая ноздрями:
— Я здесь все могу, Быков, запомни — все! Если мешать не станешь.
— Не стану, Осман Алиевич, — через паузу отозвался Быков, — ей-богу, не помешаю, ибо тебе мешать — против ветра плеваться.
— Догадливый, — медленно усмехнулся Митцинский. Отодвинулся.
Загудела, охнула толпа единой грудью: Каюмов назначил штрафной в ворота сборной аула. Счет был пять — пять, до конца игры оставалось несколько минут. В воротах аульчан метался парень в заплатанном бешмете, месил траву босыми ногами. Опанасенко устанавливал мяч для удара, готовился к разбегу.
Зритель затаил дыхание, ждал. Каюмов оглянулся на Аврамова. Аврамов позвал:
— Опанасенко! — Многозначительно вздернул бровь, сказал чекисту: — Соображай что к чему. Не перестарайся.
— Ясно, чего там соображать, — догадливо ухмыльнулся боец. Отошел, стал разбегаться. В мертвую тишину уронил из-под белого облака хриплый крик пролетавший ворон.
Опанасенко бухнул по мячу — тараном двинул, прицелившись. Мяч метеором черканул над площадкой, влип вратарю в живот, встряхнул его. Парень разинул рот — перехватило дух, долго стоял, прижимая мяч к животу, пока оклемался.