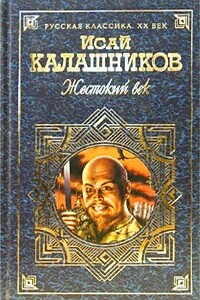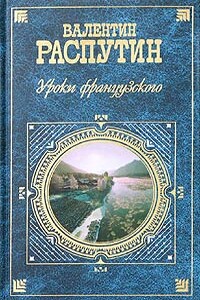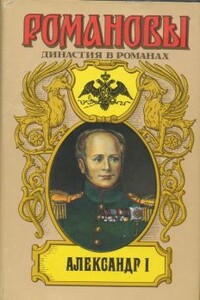Музыка затихла. В тишине, из кучки народа на Троицкой площади, послышался вопль, визг: там женщина билась в припадке. И опять, как давеча, по всей толпе, от площади до виселицы, прошло глухим гулом содрогание ужаса. Казалось, еще минута, – и люди не вынесут: бросятся, убьют палачей и сметут виселицу.
– Вешать! Вешать! Вешать скорей! – кричал Кутузов. – Эй, музыка!
Снова заиграла музыка. Трех упавших вытащили из дыры. Взойти на помост они уже не могли: взнесли на руках. Опустившуюся доску подняли. Пестель достал до нее носками и ожил: по замершему телу пробежала новая судорога. Бестужев не достал благодаря малому росту: он один от второй смерти избавился.
Опять накинули петли и опустили доску. На этот раз все повисли как следует.
Был час шестой. Солнце всходило в тумане, так же как все эти дни, тускло-красное. Прямо против солнца, между двумя черными столбами, на пяти веревках висели пять неподвижно вытянутых тел, длинных-длинных, белых, спеленутых. И солнце, тускло-кровавое, не запятнало кровью белых саванов.
Накануне казни государь уехал, или, как иные говорили, «бежал» в Царское. Каждые четверть часа туда посылали фельдъегерей, прямо с места казни. С последним Кутузов отправил донесение:
«Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, коих было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы, при первом разе, трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев – сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть. О чем Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу».
В тот же день начальник главного штаба, генерал Дибич, писал государю:
«Фельдъегерь доставит Вашему Величеству донесение генерала Кутузова об исполнении приговора над мерзавцами. Войско вело себя с достоинством, а злодеи с тою низостью, которую мы видели с самого начала».
«Благодарю Бога, что все окончилось благополучно, – ответил государь Дибичу. – Я хорошо знал, что герои 14-го не выкажут при сем случае более мужества, чем следует. Советую вам, мой милый, соблюдать сегодняшний день величайшую осторожность».
14-го июля отслужено было благодарственное молебствие на Сенатской площади. Войска окружали походную церковь, поставленную у памятника Петра, на том самом месте, где 14-го Декабря стояло каре мятежников. Митрополит с духовенством обходил ряды войск и кропил их святою водою.
Последняя ектенья возглашалась торжественно, с коленопреклонением:
«Еще молимся о еже прияти Господу Спасителю нашему исповедание и благодарение нас, недостойных рабов Своих, яко от неиствующия крамолы, злоумышлявшия на испровержение веры православныя и престола и на разорение царства Российского, явил есть нам заступление и спасение Свое».
* * *
«Их казнь – казнь России? Нет, пощечина. Ну, да ничего, съедят. Прав Каховский: подлая страна, подлый народ. Погибнет Россия… А, может быть, и гибнуть нечему: никакой России нет и не было».
Так думал Голицын, сидя в своей новой камере, в Невской куртине, куда перевели его после экзекуции, 13-го июля. Он уже знал, что казнь совершилась, – фейерверкер Шибаев успел ему об этом шепнуть, – но больше ничего не знал. В эти дни после казни арестанты содержались с такою же строгостью, как в первые дни заключения. Никуда не выпускали их из камер; разговоры и перестукивания кончились; сторожа опять онемели; на все вопросы был один ответ: «Не могу знать».
В самый день казни Подушкин потихоньку передал Голицыну записку от Мариньки. Плац-майорская дочка, Аделаида Егоровна, умолила об этом отца. Записка была нераспечатана.
«Мой друг, я давно тебе не писала, не имея духу и не желая через посторонних сообщить страшную весть. Прошлого Июня месяца, 29 числа, скончалась маменька. Хотя она уже с Генваря месяца хворала, но я столь скорого конца не чаяла. Не могу себя избавить от мысли терзающей, что я, хотя и невольная, виновница сего несчастия. Нет горше муки, как позднее раскаяние, что мы недостаточно любили тех, кого уже нет. Но лучше не буду об этом писать: ты сам поймешь. Итак, я теперь совершенно одна на свете, ибо Фома Фомич, хотя и любит меня, как родную, и готов отдать за меня жизнь, но, по старости своей (он очень постарел с бабушкиной смерти, бедненький, и ныне совсем, как дитя малое) для меня опора слабая. Но ты за меня не бойся, мой друг. Я теперь знаю, что человек, когда это нужно, находит в себе такие силы, коих и не подозревал. Я не изменила и никогда не изменю твердому упованию на милость Божию и на покров Царицы Небесной, Заступницы нашей, Стены Нерушимой, всех скорбящих Матери. Только теперь узнала я, сколь святой покров Ее могуществен. Каждый день молюсь Ей со слезами за тебя и за всех вас, несчастных. Много еще хотела бы об этом писать, но не умею. Прости, что так плохо пишу. Я пережила ужасные дни, получив известие, что второй разряд, в коем и ты состоишь, приговорен к смертной казни. Я, впрочем, знала, что не переживу тебя, и это одно меня укрепило. Вообрази же радость мою, получив известие, что смертная казнь заменена каторгою, – и радость еще большую, что нам, женам, разрешено будет за мужьями следовать. Все эти дни мы с княгиней Екатериною Ивановною Трубецкого – какая прекрасная женщина! – хлопотали о сем и теперь уже имеем почти совершенную уверенность, что разрешение будет получено. Мне больше ничего не нужно, как только быть с тобою и разделить твое несчастие. Вот и опять не знаю, как сказать. Помнишь, больной, в бреду, ты все повторял: „Маринька, маменька…“