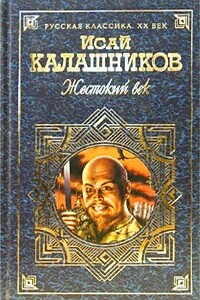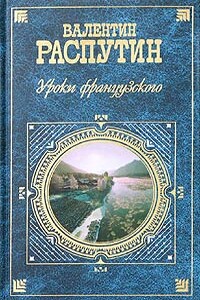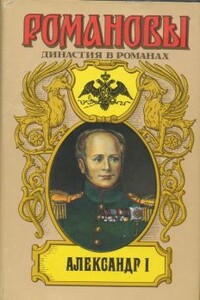Царство Зверя - страница 348
До последней минуты не знал, что будут вешать. С вала увидели небольшую кучку народа на Троицкой площади. В городе никто не знал, где будут казнить: одни говорили – на Волковом поле, другие – на Сенатской площади. Народ смотрел молча, с удивлением: отвык от смертной казни. Иные жалели, вздыхали, крестились. Но почти никто не знал, кого и за что казнят: думали – разбойников или фальшивомонетчиков.
– Il n'est pas bien nombreux, notre publique.,[229] —усмехнулся Пестель.
Опять, в последнюю минуту, что-то было не готово, и Чернышев с Кутузовым заспорили, едва не поругались.
Осужденных посадили на траву. Сели в том же порядке, как шли: Рылеев рядом с Пестелем, Муравьев – с Бестужевым, а Каховский – в стороне, один.
Рылеев, не глядя на Каховского, чувствовал, что тот смотрит на него своим каменным взглядом: казалось, что, если бы только остались на минуту одни, – бросился бы на него и задушил бы. Тяжесть давила Рылеева: точно каменные глыбы наваливались, – и он уже не отшвыривал их, как человек на маленькой планете – легкие мячики: глыбы тяжелели, тяжелели неимоверною тяжестью.
– Странная шапка. Должно быть, не русский? – указал Пестель на кожаный треух палача.
– Да, верно, чухонец, – ответил Рылеев.
– А рубаха красная. С́est le goût national,,[230] палачей одевают в красное, – продолжал Пестель и, помолчав, указал на второго палача, подручного: – А этот маленький похож на обезьяну.
– На Николая Ивановича Греча, – усмехнулся Рылеев.
– Какой Греч?
– Сочинитель.
– Ах, да, Греч и Булгарин.
Пестель опять помолчал, зевнул и прибавил:
– Чернышев не нарумянен.
– Слишком рано: не успел нарядиться, – объяснил Рылеев.
– А костры зачем?
– Шельмовали и мундиры жгли.
– Смотрите, музыканты, – указал Пестель на стоявших за виселицей, перед эскадроном лейб-гвардии Павловского гренадерского полка, музыкантов. – Под музыку вешать будут, что ли?
– Должно быть.
Так все время болтали о пустяках. Раз только Рылеев спросил о «Русской Правде», но Пестель ничего не ответил и махнул рукой.
Бестужев, маленький, худенький, рыженький, взъерошенный, с детским веснушчатым личиком, с не испуганными, а только удивленными глазами, похож был на маленького мальчика, которого сейчас будут наказывать, а может быть, и простят. Скоро-скоро дышал, как будто всходил на гору: иногда вздрагивал, всхлипывал, как давеча, во сне; казалось, вот-вот расплачется или опять закричит не своим голосом: «Ой-ой-ой! Что это? Что это? Что это?» Но взглядывал на Муравьева и затихал, только спрашивал молча глазами: «Когда же гонец?» – «Сейчас», – отвечал ему Муравьев также молча, и гладил по голове, улыбался.
Подошел отец Петр с крестом. Осужденные встали.
– Сейчас? – спросил Пестель.
– Нет, скажут, – ответил Рылеев.
Бестужев взглянул на отца Петра, как будто и его хотел спросить: «Когда же гонец?» Но отец Петр отвернулся от него с видом почти таким же потерянным, как у самого Бестужева. Вынул платок и вытер пот с лица.
– Платок не забудете? – напомнил ему Рылеев давешнюю просьбу о платке государевом.
– Не забуду, не забуду, Кондратий Федорович, будьте покойны… Ну, что ж они… Господи! – заторопился отец Петр, оглянулся: может быть, все еще ждал гонца, или думал: «Уж скорее бы!» и подошел к обер-полицеймейстеру Чихачеву, который, стоя у виселицы, распоряжался последними приготовлениями. Пошептались, и отец Петр вернулся к осужденным.
– Ну, друзья мои… – поднял крест, хотел что-то сказать и не мог.
– Как разбойников провожаете, отец Петр, – сказал за него Муравьев.
– Да, да, как разбойников, – пролепетал Мысловский; потом вдруг заглянул прямо в глаза Муравьеву и воскликнул торжественно: «Аминь глаголю тебе: днесь со Мною будеши в раю!».[231]
Муравьев стал на колени, перекрестился и сказал:
– Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию!
Наклонился, поцеловал землю и потом – крест.
Бестужев подражал всем его движениям, как тень, но, видимо, уже не сознавал, что делает.
Пестель подошел ко кресту и сказал:
– Я, хоть и не православный, но прошу вас, отец Петр, благословите и меня на дальний путь.