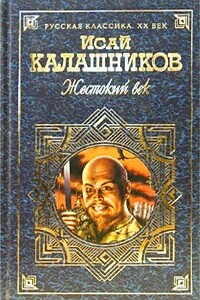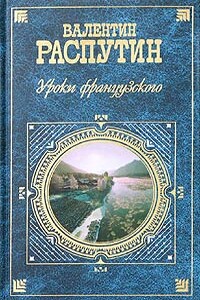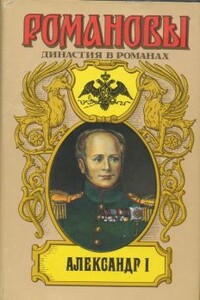После этой записки Голицын всю ночь не спал, мучился, решал, что ему делать, но ничего не решил – понял, что само решится.
Утром написал в Комиссию, просил вернуть вопросные пункты. Вернули. Начал писать новый ответ. Сделал так, как Оболенский советовал: отвечал на каждый вопрос с точностью, стараясь только никому не повредить, никого не запутать, и для этого лгал, хитрил, вилял, изворачивался.
Писал до поздней ночи. Кончив, лег. В темноте, при тусклом свете ночника, листики ответа белели на столике. И каждый раз, как он взглядывал на них, чувствовал такое отвращение, что, казалось, вот-вот схватит и разорвет. Но не разорвал. Отвернулся к стене, чтобы не видеть, и, наконец, уснул.
На следующий день отправил новый ответ в Комиссию, а дня через два Сукин поздравил его с первою царскою, милостью – снятием ножных желез. Вторая милость была посылка из дому: белье, любимый старый халат – тот самый, в котором он ходил в бабушкином доме, в желтой комнате, когда выздоравливал, – и распечатанная записка Мариньки:
«Мой друг, я здорова и столь благополучна, сколь возможно сие в моем положении. Береги и ты себя; ради Бога, не предавайся отчаянию. Не думай, что я могу существовать без тебя. Одна смерть разорвет нашу связь. Я буду там, где ты. Помни, что я говорила тебе: моя жизнь от тебя зависит, как нитка от иголки; куда иголка, туда и нитка. Храни тебя Бог и Матерь Пречистая. Твоя навеки, княгиня Марья Голицына».
Еще дня через два повезли его на второй допрос в Комиссию. Ввели в ту же залу, с теми же обрядами.
– Показания Рылеева по некоторым пунктам несходны с вашими. Вам будет дана очная ставка, – сказал Чернышев и позвонил. Конвойные ввели Рылеева.
– Подтверждаете ли вы, Голицын, что в ночь накануне Четырнадцатого Рылеев сказал Каховскому, давая кинжал: «убей царя»?
– Подтверждаю.
– А вы, Рылеев, что скажете?
– Я уже говорил вашему превосходительству, что согласен заранее со всем, что покажет Голицын. Я хорошенько не помню, что тогда говорил, но если он помнит, – значит, так и было… А вы, Голицын, помните?
– Помню, Рылеев, – сказал Голицын и поднял на него глаза.
Опять, как тогда, в Эрмитаже, – он и не он. Но негодованья, презренья теперь уже не было, а только жалость бесконечная: что с ним сделали? Исхудал, осунулся, как после тяжкой болезни или пытки. Но не это самое страшное, а безоблачная ясность, тихость лица, какая бывает у мертвых. «Ты его не знаешь: он лучше нас всех», – вспомнилось Голицыну.
– Итак, Рылеев, вы подговаривали Каховского?
– Подговаривал? Нет. Он сам решил, и я это знал. Но, может быть, без меня ничего бы не сделал. Я виноват больше, чем он, – ответил Рылеев и, помолчав, прибавил:
– Ваше превосходительство, я не скрываю не только дел и слов моих, но и самых тайных помыслов. Мне часто приходило на ум, что для прочного введения нового порядка необходимо истребление всей царствующей фамилии. Я полагал, что убиение одного государя не только не произведет пользы, но, напротив, может быть пагубно для цели Общества, ибо разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев августейшей фамилии, и все сие неминуемо породит войну междуусобную. С истреблением же всей фамилии поневоле все партии соединятся. Но, сколько могу припомнить, я никому не открывал сего, да и сам, наконец, обратился к прежней мысли, что участь царствующего дома вправе решить только Великий Собор. За сим, покорнейше прошу Комиссию не приписывать того упорству моему, что я всего ныне показанного не открыл прежде. Если что и скрывал, то щадя не столько себя, сколько других. Признаюсь чистосердечно: я сам себя почитаю главнейшим и, может быть, единственным виновником Четырнадцатого, ибо если бы с самого начала отказался участвовать, то никто бы не начал. Словом, если для блага России нужна казнь, то я один ее заслуживаю и молю Создателя, чтобы на мне все кончилось.
– Каховский показывает, что графа Милорадовича убил Оболенский, нанеся ему рану штыком, – продолжал Чернышев. – Подтверждаете ли вы, Рылеев, что убил его не Оболенский, а Каховский, и сам об этом сказывал у вас на квартире, вечером. Четырнадцатого?