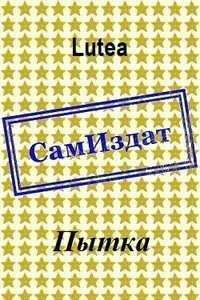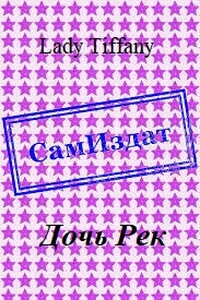К наступлению ранних сумерек Верешко не чуял ног. Он успел раза по три сбегать на каждый кипун, где «Баран и бочка» сегодня кормил мирских трудников. Опять завернул к торгу – ужасаясь, предчувствуя самое скверное. Воровской ряд так и не ожил. И никто не смеялся сыну валяльщика ни в лицо, ни за спиной.
– Опалёниха-то… Слыхали?
– Да что она?
– Дочку вон выставила, во как.
– Батюшки-светы! Дога́душку? За что бы?
– Девка умница вроде, скромница, труженка…
– А за то, что материны жемчужные ко́лты стащила и Карасихе на продажу подкинула. Вот за что!
Верешко, успевшему немного перевести дух, взгадило снова. «Лучше бы я вовсе сиротой жил! – мелькнула кромешная мысль. – С камышничками в Диком Куту! От доброты людской пищи себе искал…»
– Охти-тошненько! Не стало в человеках стыда! Правду Люторад говорит: последние времена близко.
– Как уж те рубашечки не припомнить…
– Ну тебя! Своих грехов мало, ещё чужие считать?
Вот это была правда святая. Беда многих вынудила замараться. Кто-то страшным воплем вопил над скудельницами семьян, взятых поветриями заморного времени. Кто-то добывал умиральные рубашечки чужих деток, зазывал смерётушку к своим, слишком многочисленным и большеротым… Путь смерётушке тропила вдова Опалёниха. Сама с того неплохо жила. Держала собственный двор. В жемчужных колтах ходила.
– Ну а Карасиха колтушки узнала. Не стала под рогожу выкладывать, назад принесла.
– Добрая она, Карасиха.
– Все добрые. А своя рубаха каждому ближе к телу.
– Девка-то что теперь?
– Да что. Кузнецы увели пока, там видно будет.
Снаружи царствовала уже сущая тьма, прорезанная лишь огоньками уличных светильников. Верешко сидел в кладовой «Барана и бочки», голова то запрокидывалась, то падала на грудь. Отдав тележку, ненадолго сел, вытянул ноги, пригрелся… Когда в кладовую заходили, он вздрагивал, виновато бормотал, садился прямо… голова тут же начинала снова клониться. Витала смутная мысль об отце, в это самое время всё крепче напивавшемся в «Зелёном пыже». Никак не получалось додумать её до конца…
Прикосновение заставило вскинуться. Верешко распахнул глаза. Над ним стояла Тёмушка со старой шубой в руках.
– Ты что?..
Голос прозвучал хрипло. Клочья сна расползались медленно, как талый снег, потревоженный в проруби.
Дочка палача смутилась, отвернулась, хотела ответить, но в кладовую заглянула Озарка. Принесла хороший узелок съестного и несколько медяков – его сегодняшний заработок. Верешко беспамятно взял то и другое. Тряхнул головой, нахмурился, протянул деньги обратно.
– Лучше… у себя подержи, тётя Озарка. – «Отик найдёт, снова загуляет без удержу…» – А то домой понесу, не нарваться бы впотьмах на кого.
– Конечно, маленький.
Попробовал бы кто другой так назвать Верешко! Озарке почему-то было можно. Она обняла его на прощание. Верешко ткнулся носом в запонец девушки, пахнувший сдобным домашним теплом… Между прочим, в «Баране и бочке» с некоторых пор начисто перестали красть, и почему бы?.. Снаружи по-прежнему колыхались на ветру полотнища ледяной влаги. При мысли о том, чтобы туда выходить, по телу прошла корча.
– Ты, может, тележку возьмёшь? – негромко, участливо спросила Озарка.
Верешко аж бросило в пот. Жаркий стыд смёл последние остатки сонливости. На тачках увозили домой уже самых пропастных пьянюг, растливших последнюю честь. Горожане даже не порицали безнадёжных «мочеморд», они были назиданием и посмешищем. Верешко уставился в пол:
– Отик не такой…
– Завтра придёшь? – подала голос Тёмушка.
«Не твоего ума дело, обрютка!» Вслух он буркнул:
– А то…
«Зелёный пыж» был самым дешёвым кружалом, поскольку стоял на краю Дикого Кута. Сегодня моросило по всему Шегардаю, но в остальном городе случались и вёдрые, краснопогодные дни без дождя, а здесь – никогда. Работники кружала только поспевали крышу чинить.