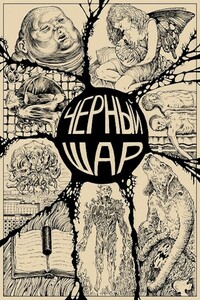Верешко встревать не хотел, но язык снова выскочил без спросу:
– А мне полюбилось…
Коротышка обернулся. Верешко даже попятился, но морянин, чьё имя он никак запомнить не мог, лишь махнул рукой – устало, с перегоревшей обидой:
– Полюбилось ему! Под такую пла́чу плачеву́ю все брёвна раскатятся, сам камень трещинами пойдёт! Небось Клыпа с Бугорком плотников веселят, одни мы грево разносим…
Тут по ступеням простучала деревянная пятка. Вприпрыжку спустился колченогий кувыка, следом горбатый.
– Хлеб-соль, труднички!
– Едим, да свой. Вы откуда здесь? Что у дворца не играете?
– Рады бы… выставили нас.
– Кто выставил?
– Люторад. Не дело, сказал, каженикам зачин великого дела сквернить.
– От каженика слыхали.
– Это он тебя, Клыпа, не за костыль прогнал, а за гусли.
– Ему поперёк, нам как раз!
– Садитесь, Божьи кувыки, хлеба преломить. После мы за дело, вы за игру!
Верешко еле дождался, пока водоносы разделаются с едой. Забрал порожний горшок, взял корзину, бегом покатил тележку на склон, хотя куда было торопиться? «Не в убытке дело, в обиде, – обходя взглядом Малютиного сына, сокрушался на рассвете Угрюм. – Рядом дорогие укра́сы лежали, не тронули их. Кому снизка понадобилась? – И добавил, обращаясь к необличённому вору: – Решил, раз не золото, не серебро, хватиться забуду? А мне от друга подарок. Дочери вёз…»
Мимо целыми семьями двигались уличане. Отцы, матери, почтенные старики, нарядные дети. Все праздновали. Все тянулись в сторону больших улиц: людей посмотреть, себя показать.
У одного забора людской ручеёк менял течение, отклоняясь к другой стороне улицы. Верешко, одержимый тёмными мыслями, забылся, побежал прямо. Рокоту деревянных колёс тотчас отозвался глухой, нарастающий рык. Над забором взметнулась ощеренная голова чуть поменьше медвежьей, лязгнула зубищами, рявкнула так, что по мостикам запрыгало эхо. Хозяин двора, седенький старичок, племил сторожевых псов, приведённых, по слухам, с каторжного рудника. Верешко шарахнулся, уронил шапку, под смех прохожих побежал дальше.
На углу Лапотной и Кованых Платов стоял храм Огня. Как говорили, Возжигание здесь праздновалось с самого основания города, но года через три после Беды храм перестроили. Искусные шегардайские зодчие придали новым сводам вид человеческих ладоней, сложенных в защитном движении. Благодарные люди оберегали Огонь.
Как раз когда Верешко подкатил по Лапотной пустую тележку, из дверей храма выплыла в полном составе семья Твердилы, кузнечного старшины. Сам большак, невысокий, сухопарый, был уже сед, но рыжую бороду нёс по-прежнему гордо. Сзади ратью двигались могучие сыновья. Вот кого в полной мере догадало статью и красотой! Может, не зря люди посмеивались, будто Твердилиха когда-то пришла к мужу в кузню молотобойцем. Теперь старший сын сам вёл за руку молодую жену, а румяной Твердилишне была вверена многоценная ноша: скляночка с живой толикой храмового Огня.
Верешко так засмотрелся на них, что едва ногу не подвернул.
«Вот бы мама не умерла. Вот бы мне братика родила. Я бы его миловал… и маму любил…»
Пестовать такие мысли негоже. Хулительно для Владычицы, не нуждающейся в подсказках смертных, кого и как забирать.
Её земной тенью по ту сторону маленькой площади стоял молодой жрец Люторад. Он не попрекал Твердилу и других верных Огня, но взгляд был хуже попрёков. Кузнечный большак перестал улыбаться, ещё надменней задрал бороду, прошёл мимо.
Навстречу столь же кичливо, не глядя, не кланяясь, проплыл купец Радибор. Поговаривали, его богатство скопилось в Беду, когда люди по весу выменивали золотишко на хлеб.
С того конца запруженной улицы будто прокатилась волна. Люди стали оглядываться, подаваться в стороны, жаться ближе к заборам. Верешко с его тележкой затолкали обратно на Лапотную, притиснули к чьей-то калитке.
– Везут! Везут!..
Издалека наплывал тяжкий медленный скрип, хлопанье бичей, надсадное мычание оботуров. Телеги с лесинами, отобранными в северных чащах, миновали городские ворота и помалу одолевали горбы мостов, продвигаясь к Торжному острову. Слышалось многоголосое пение. Впереди телег, освящая каждый шаг пути, выступали жрецы.