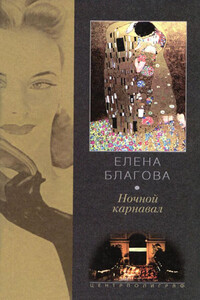Плакал, утыкая лицо в руку, лежащую волосатым бревном на кухонном столе.
Обе бабушки, Наталья и Апа, молились за мое здоровье. Одна ходила в Высоковскую церковь. Другая – в мечеть в Печерской слободе.
Я не понимала, как это – молиться разным богам. Разные церкви строить. Одному богу – и другому богу. А разве их может быть два? А кто такой бог?
Я воображала его суровым грозным дядькой с белой бородой, с огромными жесткими кулаками. Воздевает руки из-за облаков, грозит бедным людишкам. Если таким кулаком ударит – не встанешь.
Однажды ночка у меня была. Всем ночкам ночка. Я наплакалась, как обычно, наревелась всласть, потом стала себя ругать: ну, дура, хватит хныкать, закрывай глазенки и спать.
Еще некрепко спала, дремала, когда рядом со мной зашуршало.
Зажигать свет не стала. Глядела во тьму.
Он стоял передо мной, босыми ногами на холодном полу, маленький, голый. Глаза раскрыты широко. Так смотрят напоследок. Или в первый раз.
– Сыночек…
Маленький мальчик. Только научился ходить. Еле держался на крохотных ножках. Засунул себе в рот большой палец.
Сосал палец. Смотрел на меня. Не призрачный. Настоящий. Вот я схожу с ума, и никто меня не остановит.
Я рывком села в кровати. Протянула к ребенку руки.
– Иди, – сказала я тихо, – иди ко мне.
Мальчик вынул палец изо рта и улыбнулся мне. Сверху два зуба и снизу тоже. Похож на зайца.
По моим щекам текли потоки соленой, глупой воды.
– Как тебя зовут? Федя?
Младенчик молчал и улыбался.
– Петя?.. Я же помню…
Мне показалось, он сейчас упадет. Я спустила ноги с кровати, чтобы в случае чего подхватить его на руки.
– Не Петя?.. Леша…
Мальчик завалился на бок, все-таки упал. Захныкал. Пополз к двери. Дверь спальни сама страшно распахнулась перед ним.
Он уполз в темноту, в черное ничто.
Я проспала четверо суток без просыпу.
Мать подходила ко мне, щупала мой лоб. Она потом говорила мне: «Я думала, ты уж не жилец».
Так бывает: р-раз – выключил кнопку; р-раз – повернул руль; р-раз – дернул вниз реле; р-раз – нажал на спусковой крючок. Стоп-кадр. Ты остался навек в этом кадре, а твой фотоаппарат полетел в пропасть. И никто, никто и никогда не увидит этого снимка.
Когда я проснулась, была другая жизнь.
В другой жизни надо было жить. И стать другой.
Я почувствовала себя зверем. Вышедшим из чащи, сильным, молодым и здоровым зверем, которому надо кусаться, драться, лаяться, рычать, сражаться, выть и вопить, и все – в радость, все – в праздник.
Я дико, зверино захотела праздника.
Праздники – мгновенное счастье земли, вечное счастье. Цветные ленты, гирлянды роз и гвоздик, карнавальные маски, пылающие факелы, тысячи огней, ночное небо, наряженные елки, букеты и конфеты! И подарки, подарки. Если праздника нет – надо его придумать, решила я! Сама подарю себе подарок, если никто не подарит!
Праздник сам нашел меня. Сам.
Отец отступился от меня. Он больше не пил водку и не поил меня.
Мать притихла. Молчала. Варила на кухне невкусную каждодневную еду: картошку, кашу, макароны.
Мир серый и жухлый. Метельный февраль. За оттепелью набегали холода, поземка целовала ноги, вилась исступленно. Может, молила простить? За то, что злая такая?
А я все думала: что мне делать? Я убила в себе человека. Значит, я могу убивать.
Я могу убивать.
Я могу.
А что такое смерть? Она стоит денег? Да, стоит, отвечала я себе. Все на свете стоит денег.
Я была нищая, бедная. «Нищая, как церковная мышь», – говорила моя мать о соседке Кире Павловской. Разве мышь может быть нищей? Разве в церкви водятся мыши? Там же еды никакой нет. Нет, на Пасху, на Рождество и другие большие праздники в церковь старухи приносят еду разную – куличи, яйца, конфеты, печенье, да просто батоны зачем-то приносят, булки и сайки, и священник брызгает на все это святой водой, освящает. Ну и мыши, может, приходят. Им пожрать ведь тоже охота.
В глянцевом богатом журнале, где я делала фотографии красивых богатых людей, красивых богатых домов, красивых богатых вечеринок, мне платили жалкие, стыдные копейки. На эти деньги нельзя жить, но можно выжить. И я выживала. И я не хотела так жить.
Я убила своего ребенка, и я выжила, и я захотела быть богатой и счастливой.