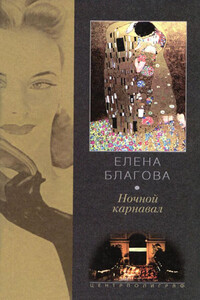За мальчиком тянулась извилистая красная живая, мокрая веревка. Алена наклонила голову.
Вцепилась зубами в красно-синий перевитый шпагат пуповины.
Перегрызла ее, как зверь. «Как волчица».
– Погоди…
«Теперь надо перевязать. Крепко. Натуго перевязать».
Стащила с подушки наволочку. Снова рванула зубами. Льняная ткань треснула, подалась. Пальцы когтили, рвали белый чистый лен.
– Давай, солнышко… вот так…
Кровавый отросток заматывала, крепко затягивала. Мальчик широко разевал рот, глотал воздух.
Жахнул разрыв. Сакля сотряслась. Алена крепко прижала к себе ребенка.
Младенец припал, присосался к ее сладкой груди, и ей стало все равно, умрут они сейчас или чуть позже; где там смерть, а где жизнь – все перепуталось, все крутилось теперь вокруг нее с ребенком на руках, вокруг них двоих, и это они командовали миром, а не мир командовал ими. Все на свете было, существовало лишь для них. И поэтому смерть перестала быть. Отошла в тень. Она не исчезла; она просто стояла рядом и угрюмо глядела, как живая мать кормит живого ребенка и смеется от счастья.
А Мадина все лежала на полу, все лежала.
Алена, когда ребенок насытился, неумело завернула его в белые лоскутья от порванной наволочки. Мальчик закрыл глаза. Он уже спал. Быстро наелся, быстро уснул. Чудо.
А Мадина все лежала на полу.
Она осталась лежать на полу и тогда, когда утомленная родами Алена уснула рядом с новорожденным сыном своим.
Разрывы ухать перестали. И наступила в горах ночь.
И было утро.
Утром опять начался обстрел.
Снаряды ложились поодаль сакли Мадины, и Алена поняла: надо спешить. Медленно встала. Мальчик спал. Зима, надо его укутать хорошенько. Одеяло… теплую бы куртку найти…
Мадина все лежала на полу. Алена, морщась, присела рядом. Тронула за плечо.
– Эй… Мадина…
Не шевелилась.
Алена осторожно перевернула чеченку на спину. В ее груди засел осколок снаряда. Подцепив Мадину слабыми руками под мышки, Алена вытащила ее из сакли во двор. «Дальше двора я ее никуда не уволоку. Буду хоронить здесь».
Зажужжало над головой. Алена пригнулась, обняла голову руками. «Лопату… найду в сарае…»
Подошла к сараю. Толкнула дверь. Вспомнила их с Ренатом сарай, где они обнялись впервые.
Посреди двора стала копать яму. Три козы из-за железной сетки испуганно наблюдали, как комки мерзлой земли летят из-под лопаты в стороны. Алена обливалась потом. Подкашивались ноги. Копала и прислушивалась – не закричит ли мальчик в доме. Обманная тишина висела морозной дымкой. «Сейчас долбанут с новой силой! Торопись!»
Нажимала, надавливала ногой на наступ лопаты, вгоняла лезвие в твердую землю – глубже, глубже, пот по лбу, по спине тек рекой.
Комья земли, взмолотой взрывом, ударили ей в лицо. Она стерла грязь со щек. Бросила лопату. Подтащила к яме мертвую Мадину. Свалила в яму просто и грубо. Мадина упала вниз лицом.
– Прости, подруга…
Схватила лопату. Стала хоронить.
Снаряд лег вблизи. Обрушилась соседняя сакля. Стерлась в пыль, в белый порошок.
Алена бросила лопату. Ринулась в дом. Схватила младенца на руки. Он по-прежнему спал. Алена потолкала в рюкзак все, что с ходу хватали глаза и руки: банку тушенки, горбушку хлеба, кусок круглого козьего сыра, простыню окровавленную с кровати сдернула, да, воды надо взять с собой в дорогу, она захочет пить, без питья у нее не будет молока…
Все. Рюкзак – на плечи. Мальчика – на руки. Повязать платок, надвинуть на глаза.
– Спасемся, – выдавили губы. Руки крепче прижали ребенка.
Выскочила во двор. Побежала по улице, пригибалась, приседала – и опять бежала. Вперед. К белой, жестко-хрустальной гряде гор, там, на востоке.
Туда, где всходило солнце.
Пули справа. Пули слева. Воронки, пустые земляные кастрюли.
Мать с ребенком на руках бежит узкой козьей тропкой жизни посреди смерти.
Ее могли подстрелить тысячу раз. Никто не узнал бы, где и как она умерла. Пот заливал лицо, тек из-под платка на брови. Мальчик то визжал поросенком, то плакал жалобно, кряхтел.
Все смутно. Сквозь пелену. Сквозь густой – задохнешься – туман. Выбежала на блокпост, не понимая, что это – блокпост, и тем более не вникая – чей. Упала тяжело, грузно на камни, присоленные мелким крупитчатым снегом. Чьи-то руки приподняли ее, уже плывущую мимо жизни глазами и телом, потащили, понесли, – и она хлебным краем, отломанным куском сознанья, хваталась за родное: «Ребенок мой… сыночек… не отнимайте…» Ей ко рту прислонили что-то горячее, сладкое, обжигающее: пей, выпей. До дна. Она послушно пила до дна. Ее опять, уже осторожно, как хрустальную, несли куда-то, и потом прохладу простынок и пухлость подушки она ощутила под собой, и ощутила тепло и шевеленье ее ребенка рядом с ней; и, очнувшись, видя зимний, голубой и золотой, через льдистые узоры, свет в окне, и мирно спящего мальчика рядом с собой, она счастливо, облегченно заплакала, зарыдала тихо, и прошептала: неужели живы, неужели, не верю.