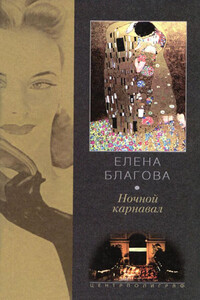– Разве я родилась?.. Скажи мне…
Он молчал. Вытянулся на земле. Кровь еще текла из ран. И уже переставала течь.
Алена прислушалась к себе.
Дух, сказал Он, дух Мой перейдет в тебя, и ты…
«Что буду делать я теперь? Где я? Что со мной? И куда ушел Он?»
Она глядела на вытянутое по земле тело. Радостно, празднично билось сердце.
«Он умер, как солдат. Он сказал: после Моей смерти никто больше не убьет друг друга. Он просил: похорони меня здесь».
Алена встала, отерла слезы, пот и кровь с лица. Огляделась. Невдалеке валялась совковая лопата. Она взяла лопату и стала рыть каменистую землю. Земля с трудом поддавалась. Но Алена все рыла и рыла, и все росла и росла яма. И ни одного выстрела не было слышно в ставшем внезапно чистом и прозрачном, как хорошее светлое вино, горном холодном воздухе, в нежной ночи. Звезды шевелились, кучно, как свечи в старой церкви, горели, бились над головой. Журчал, невнятно бормотал свою древнюю молитву ледяной ручей.
Алена вырыла большую, хорошую яму, перетащила, ухватив под мышки, по камням Его тело – и перевалила, столкнула в яму.
– Прости, что я без гроба Тебя…
Стала засыпать яму, швырять землю, камни лопатой.
Засыпала. Передохнула. Кинула лопату прочь.
Села перед могильным холмом. Сгорбилась. Уткнула лицо в ладони.
И ночь накрыла ее, отслужившую последнюю литургию, черным горским платом, расшитым крупным речным жемчугом, горным хрусталем, кусками битого розового, голубого перламутра.
СВЕЧА
Я скосила глаза на алюминиевую серую, как шкурка крысы, миску, что стояла у меня на тумбочке.
В миске лежал засохший пирожок. Его никто не съел.
И я тоже не съела. Я не хотела есть.
«И никогда не захочешь больше. Все, отъела свое».
– Сестра, – беззвучно пошевелила я губами, – сестра…
Пух-пух – мягко подошли мягкие тапочки к моей койке.
– Что вам?
Ира слегка присела и наклонила щеку к моей щеке.
– Вынь… из миски… пирожок…
Ира вынула, поднесла к моему лицу.
– Нет… не хочу… положи на тумбочку.
Ира положила пирожок на тумбочку. На ее круглом лице мерцала, как вода в ведре, покорная усталость: ну что тебе еще надо, старуха, что ты хочешь?
– Ирочка… у тебя… есть свеча?
Я думала, она удивится.
Она не удивилась.
– Свеча? Есть. На кухне, в ящике, лежат три свечки парафиновых. На всякий случай, если вдруг электричество отключат.
Она хихикнула тихо.
– Ирочка… прошу тебя… принеси мне свечу… и поставь… вот сюда… в эту миску… пусть горит…
Ира повернулась и беззвучно, пуф-пуф, вышла из палаты.
Она скоро вернулась. В руках у нее вытягивала тонкую белую шейку обыкновенная парафиновая, хозяйственная свеча.
Ира пошарила в кармане халата, вынула спички. Зажгла фитилек. Поводила спичкой под парафиновой ножкой, чтобы подтаяло, закапало и приварило свечу к алюминиевому дну миски.
Вот она стоит, свеча, в пустой миске. Горит. И я смотрю на нее. На огонь. Еще смотрю.
– Спасибо… доченька…
Ира вздохнула.
– Все? Так оставлю? Пойду?
– Оставь.
– Не упадет? Пожар вдруг…
– Иди.
Лидию Викторовну унесли в мертвецкую. Мария спала, как всегда, молитвенно сложив коричневые большие и бугристые, как корни, руки на груди. Свеча тихо лила в темное пространство медовый огонь.
Свеча дарила мне последний свет. Мне хотелось отблагодарить живую свечу.
И она догорит. И ее не будет. Значит, надо поспешить.
Я повернула к свече лицо, и серая миска, где она стояла и горела, почудилась мне сияющей, золотой чашей.
– Милая… Спасибо, что горишь…
Фитиль чуть потрескивал.
– Господи, спаси всех живых… мертвых благослови…
Свеча тихо покачивала ярко-оранжевый язычок.
Фортка под порывом ветра раскрылась, в палату пахнуло сквозняком, уличной гарью, речной холодной свежестью, нанесло снега.
Колючие зерна снега на моих сморщенных щеках.
– Всех сохрани и спаси…
Ручей сквозняка перестал течь.
Настала великая тишина.
За темным окном молчал вечер.
– Дай мне кончину легкую… легкую смерть, Господи, дай…
Свеча ровно, ярко, мощно горела в алюминиевой миске. Будто кто-то плыл в пустой лодке и держал над головой яркий факел.
Я глядела на свечу, и глаза мои болели, слезились, слезы текли из углов глаз на серую больничную простыню, на наволочку с черной казенной расплывшейся печатью.