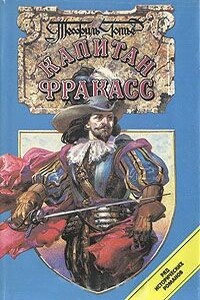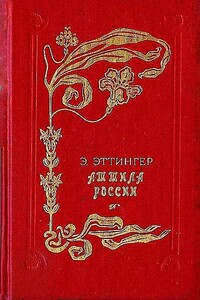Прошла неделя; скорбь и безмолвие тяготели над осажденным городом. Гордые мечты о прошлом, вновь пробудившиеся было после последней победы перекрещенцев, теперь разлетелись как дым, рассеянные горькой действительностью, все яснее и яснее выступавшей во всей своей ужасной наготе перед глазами ослепленных граждан. Голод, этот неумолимый учитель, провел несчастных сквозь свою суровую школу; нужда вновь научила их трезво смотреть на вещи. Большинство раскаивалось в содеянном; но, не надеясь ни на прощение разгневанного епископа, ни на милосердие царя, оно молча и безропотно покорилось своей участи. Казалось, весь народ готовился к заслуженной гибели. Даже сравнение между собственной нуждой и изобилием, в котором утопал двор, не могло вызвать в нем возмущения против истинных виновников его несчастья. К тому же во дворце царила такая тишина, как и во всем городе, и царь уже целую неделю не показывался своим голодающим подданным. Одни уверяли, что он проводит время в посте и молитве и, наверное, вымолит у Отца Небесного чудо спасения; другие шепотом передавали друг другу слухи об опасной болезни, постигшей властелина. Некоторые доходили даже до того, что утверждали, будто какой-то злоумышленник покушался на жизнь Бокельсона и ранил его; но Господь де в своей благости спас его.
Однако никто не хотел быть источником подобных слухов, ибо для неосторожного болтуна, как и для предателя, существовала только одна кара; а лица правителей, становившиеся день ото дня все мрачнее, не обещали ничего хорошего.
В то время, как весь город боролся, так сказать, со смертью, она удивительным образом щадила молодой, незапятнанный цветок, томившийся в доме цариц. Анжела, бывшая, казалось, на краю могилы, стала поправляться, и врач, хотя и соболезнуя о будущности бедняжки, уже произнес слова: «Она будет жить».
Сильное горе не всегда убивает. Молодые силы часто спасают организм от гибели в то время, когда несчастный страдалец смотрит на это спасение как на жестокость и с радостью приветствовал бы смерть.
Анжела теперь чувствовала свое горе, сознавала всю глубину своего отчаяния и была в десять раз несчастнее нежели прежде, когда, погруженная в столбняк, она забывала об ударах судьбы, вызвавших это состояние, и до нее лишь издалека едва доносились жалобы, в которых ее безутешный отец изливался у ее ног.
Ужасное сознание, с каким она отнеслась к своему несчастью — теперь около нее не было даже ее утешителя, ибо Людгер силой был оторван от своей дочери, — побудило ее вызвать в себе искусственно прежнюю бесчувственность, в которой она находилась во время болезни. Она не жаловалась, не проливала слез; молча и безучастно лежала она на своем ложе, но перед ее закрытыми глазами беспрестанно одна за другой проносились картины страстного желания, ужаса и смерти. Надежды не было среди тех образов, которые вели с Анжелой немой разговор.
Иногда подле нее раздавались голоса: равнодушные речи служителей, перешептывание женщин, у которых хватало мужества и любопытства, чтобы навещать ее в ее келье; изредка слово сожаления из уст хирурга, который еще не отказался вполне от человечности. Анжела безучастно внимала всем этим голосам, не отвечая, не открывая глаз. Она больше не надеялась на появление друга; она боялась только одного голоса — царя. Но этот страх был напрасен. Царь в течение семи дней тоже не являлся в доме своих жен.
Иногда Анжеле казалось, что она забыта всеми, как друзьями, так и врагом. Эта мысль давала ей успокоение на короткое время. В такие дни она могла часами мысленно молить Бога взять ее к себе вопреки сопротивлению ее молодого, сильного организма, или каким-нибудь образом дать ей знать, что ей позволено самой освободиться от жизни.
В один из таких часов, после обеда, когда ей казалось, что она совсем одна, слуха ее вдруг коснулся чей-то кроткий голос. «Анжела»! — прошептали чьи-то уста.