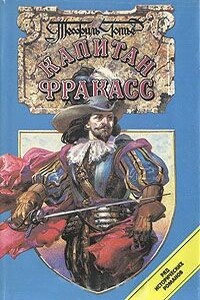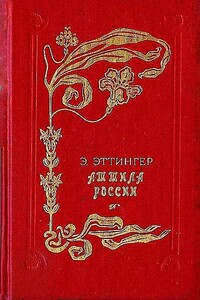И когда нельзя было более скрывать бессилие осаждающих и геройский дух перекрещенцев, тогда не только в хижины поселян и в ратуши имперских городов, но и во многие придворные канцелярии и княжеские опочивальни стала закрадываться вера или опасение, что, пожалуй, и вправду Небо покровительствует новому Сиону и трубы тысячелетнего царства — не ложь.
Казалось, это убеждение овладело даже теми, чье влияние и счастье были затронуты более всего печальными смутами, вызванными перекрещенцами. В одном из выступов замка Вольбек находилась башня, отделенная от остальных покоев длинными сводчатыми коридорами; а в ней была тихая каморка, обставленная только самой скудной мебелью, без всяких лишних украшений. Эта пустая комната стала местопребыванием епископа. Вытянувшись на жесткой постели простого монаха, он лежал, как живое воплощение ужаснейшего горя. Безучастный ко всему, что происходило за стенами замка, почти не произнося ни слова, лежал он с утра до вечера, отдаваясь своему горю, устремив неподвижный взор в полутьму комнаты, куда даже не заглядывал веселый луч солнца.
Братья приходили утешать его, но он просил их уходить. Врач пришел испытать на страждущем свое искусство, епископ качал головой, отвергая всякую помощь.
Капитул собирался у него для совета, но его участие выразилось только словами: «Управляйте за меня, я одобряю заранее все ваши действия».
Когда приходили к нему войсковые начальники с докладом, тоскующий лев поднимался с надеждой во взоре, но вскоре он, горько улыбаясь, опускался снова на свое ложе. Начальники не приносили ни одной хорошей вести. Это мрачное настроение лишило графа Вальдека доверия со стороны его подчиненных и союзников. Многие из последних покинули его, но они плохо знали епископа. Дух такого сильного человека, хотя и подавленный страданиями, не мог сломиться, не попытавшись еще раз потрясти с новой силой небо и землю для достижения своей цели.
Неопровержимым доказательством того огня, какой горел в его груди, была жажда кровавых, бессердечных расправ над еретиками, которые попадались ему в руки.
Редко раздавался в пользу заблудших голос милосердия, достаточно сильный для того, чтобы проникнуть в сердце епископа. Однако же в одно прекрасное утро такой защитник стоял перед креслом Вальдека и спорил с его мрачным канцлером за жизнь одного из осужденных. Зибинг, человек миролюбивый, говорил:
— Милостивый господин, я могу подтвердить своим священническим словом, что осужденный вернулся в лоно церкви.
— Уже не раз случалось, — возражал канцлер, — что еретики, доведенные до крайности или изнуренные пытками, заточением и плохой пищей, отказывались от своего заблуждения для спасения своей жизни. Но дурные наклонности берут все-таки верх в конце концов. И разве не общее правило, что каждый приговоренный к смертной казни должен быть напутствуем, дабы он примирился с Богом прежде, чем исполнится над ним казнь? А ведь осужденного, если он раскаялся, ожидают, после минутного страдания, вечный мир и небесная радость.
— Вы забываете чистилище, господин доктор, — заметил Зибинг с насмешкой и обратился к епископу с последней просьбой о помиловании бедного Германа Рамерса.
Вальдек покачал головой и прибавил:
— Fiat justitia! Да исполнится приговор!
— Мой долг сказать вам, — возразил кротко священник, — что костры, на которых сжигают еретиков, поддерживают пламя восстания. Смерть синдика Вика, которого повесили только за то, что он любил шахматную игру, вызвала во многих местах горесть и отвращение. Не следует забывать, что бешеная собака опаснее всего, когда ее бьют.
Презрительно взглянув на говорившего, епископ пожал плечами. Канцлер воспользовался случаем, чтобы оборвать Зибинга.
— Сапожник, — сказал он, — должен знать свои колодки: попы не управляют государством.
— А разве в нашей именно стране епископ и правитель не совмещаются в одном и том же лице? — спросил Зибинг сухо. — Священник у нас — дерево, из которого духовенство вытачивает своего князя. И не всегда даже старые дворянские роды удерживали за собой трон Мюнстера: Людгер, знаменитый святой, и его мудрый преемник Эрпо были плебеями…