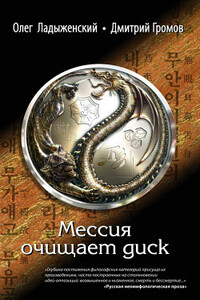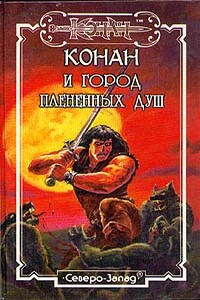«Гуляй, подруга! — разрешил Эпаминонд. — Заслужила!»
Никто не возразил. Грудой парного мяса тёлка сползла с седла, встала на четвереньки — вид ее сейчас нисколько не возбуждал братков — и сучкой, которую хозяин выгнал из дома, потащилась куда-то. Кажется, она плакала, а может, стонала. Полифем не вслушивался. У Полифема все было хорошо, лучше лучшего. Плевал он на всех тёлочек мира, плевал и сплёвывал. Теперь он знал, что делать, если не стои́т.
«Покатушки!» — выкрикнул он.
«Го-го-го! — откликнулись братки. — Покатушки! Срыв с катушки!»
«Покатушки голяком!»
«Го-го-го! Го-голяком!»
Так и прижилось. А братки, когда назавтра табун собрался вместе, хвастались, как ловко и бесконечно имели своих девчонок, которые доброволицы, по согласию. Едва вспомнишь тёлку, дурняком летающую из седла в седло, и хоть бетон долби, честное слово! Голова у тебя, Полифем! Оригинально мыслишь, брат, с подходцем!
— Не надо!
Эпаминонд отпасовал тёлку Полифему, и тот принял пас в прыжке. Сегодняшнюю тёлочку отловили в плавучих доках, на эстакаде между пирсом и понтоном — дурища отбилась от подруг, возвращавшихся после смены. Вне сомнений, она была метечкой, малоазийской переселенкой, а может, беженкой из Халпы. Все они такие: ребра наружу, а корма мощная, устойчивая, что твоя баржа. И сиськи ничего, торчат. Метечек Полифем определял без документов, наощупь. Облапав тёлку по быстрячку, для визгу, Полифем стащил с неё косынку — последнее, что оставалось на метечке — и, прихватив тонкое, пульсирующее от крика горло согнутым локтем, повязал косынку себе на манер банданы.
Табун взревел от восторга. Этот фокус не удавался никому, даже ловкачу Хомаду, центровому табуна «Лизимахов». Все удерживали тёлок по-простецки, в обхват, левой рукой, и обламывались, пытаясь справиться с банданой одной правой. Полифем же нашел рабочий способ, позволяющий и тёлочку держать, и все десять пальцев для дела освободить. Тут главное было, вывязывая узел на затылке, не придушить хрипящую забаву насмерть, но это уже вопрос решаемый, если вслушиваться в хрип — и не пропустить момент, когда он переходит в сипение и бульканье.
Иногда Полифем полагал, что из него вышел бы славный дирижер оркестра. В байкерах веселее, но искусство требует жертв!
— Отпусти ее.
Сперва Полифем не въехал. Решил, что передержал тёлочку, время делать пас, а то братки заждались, хотят в седла. Он надавил покрепче, сверху вниз, чтобы тёлка упала на колени, открывая обзор — и завертел головой: кто тут бухтит? кто?!
— Отпусти, говорю.
Тут Полифем и увидел его. Крендель стоял на углу Козьего въезда, в тридцати шагах от табуна, привалясь плечом к столбу с мигающим фонарем. Крендель разговаривал с Полифемом так, словно, мать его дери, был Полифемовым отчимом, скорым на расправу, и держал в руках солдатский ремень. С тринадцати лет, с радостного дня, когда Полифем раскроил отчиму башку кувшином для цветов, полным воды и увядших тюльпанов, байкер никому не позволял командовать собой. Ну хорошо, с глазу на глаз позволял, случалось, а в компании — ни-ни!
— Иди сюда, — бросил крендель тёлочке.
Полифем хмыкнул:
— Ага. Беги, подруга. Со всех ног.
И намотал телячьи волосы на кулак.
— Я велел: отпусти, — напомнил крендель. Голос его был скучен, как протокол в участке. — Оглох?
Полифем, может, и оглох, а табун уж точно окаменел. Не вмешиваясь, дрожа от предвкушения, все ждали, когда же Полифем разберется с наглым не по чину кренделем. Такие пижоны время от времени забредали на базы табуна: угощали пивом, набивались в братки, по пьяному делу вспоминали, что и они, крендельки, гоняли байки по трассам, да вот, жена, дети, начальники… Полифема бросило в жар. Чувствуя, как дождь закипает, едва коснувшись его воспаленной кожи, он изучал кренделя мутным от ярости взглядом. Красавчик, да. Жаль будет портить. Плащец такой моднявый, цвета мокрого песка: короткий, до середины бедра, с поясом. Шляпа из коричневого фетра: поля опущены, тулья примята. Вокруг тульи — «змеиная» лента с пряжкой. Модельные туфли-плетенки. На лицо из-под шляпы падает длинный, вьющийся на конце локон. Блондин, что ли? Фонарь перестал мигать, разгорелся как следует, и Полифем уверился: блондин. Отчим был блондином. Отчим был натуральным, а этот, мамой клянусь, крашеный.