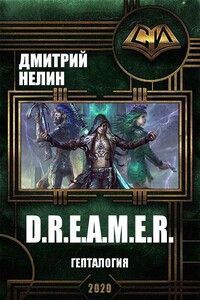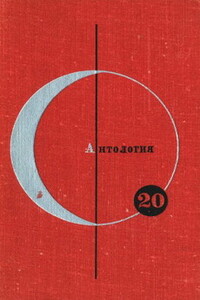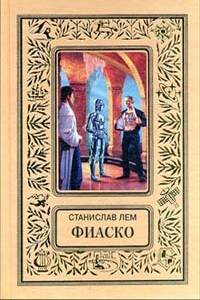Я глубоко втянул воздух. Ничего со мной не случилось, я даже не ушибся. Попробовал зажечь фары — ничего не вышло. Включил подфарники: левый горел. При его слабом свете я запустил мотор. Машина, тяжело хрипя и покачиваясь, выползла на шоссе. Однако же это была хорошая машина, если слушалась меня после всего, что я с ней проделывал. Я двинулся в обратный путь, уже медленней. Но нога сама нажимала педаль, меня снова понесло, когда я увидел поворот. И снова я выжимал из мотора все силы, пока, наконец, свистя резиной, брошенный силой инерции вперед, автомобиль не остановился вплотную перед живой изгородью. Я зарулил в кусты. Растолкав их, машина уперлась в какой-то ствол. Я не хотел, чтобы они видели, что я с ней сделал, наломал веток, прикрыл капот с разбитыми стеклами фар, только перс-док был помят, а сбоку виднелось небольшое углубление от первого столкновения со столбом или чем-то еще в темноте.
Потом я постоял и прислушался. Все молчало. Дом был погружен в темноту. Всеобъемлющая тишина ночи подымалась к звездам. Я не хотел возвращаться в дом. Отошел от разбитой машины, и, когда трава, высокая, влажная от росы трава коснулась моих колен, я упал в нее и так лежал, пока, наконец, у меня не сомкнулись веки, и я уснул.
Разбудил меня чей-то смех. Я знал чей. Знал, кто это, прежде чем открыл глаза, совершенно отрезвевший. От росы я промок до нитки. Солнце стояло еще низко. Небо в клочьях белых облаков. А напротив меня, на маленьком чемоданчике, сидел Олаф, сидел и смеялся. Мы вскочили оба одновременно. У него была такая же рука, как у меня, — большая и твердая.
— Когда ты приехал?
— Только что.
— Ульдером?
— Да. Я тоже так спал… первые две ночи…
— Да?..
Он перестал улыбаться. Я тоже. Словно что-то стало между нами. Мы молча смотрели друг на друга.
Он был моего роста, возможно даже чуть выше, сухощавее. Темные волосы при ярком свете скрывали скандинавское происхождение, а щетина на лице у него была совсем светлая; чуточку кривой, выразительный нос и короткая верхняя губа, из-под которой виднелись зубы; бледно-голубые глаза его часто смеялись, темнея от веселья; тонкие губы, всегда немного кривились, будто он все воспринимал скептически. Может, именно это выражение его лица заставило меня сначала держаться от Олафа поодаль. Олаф был старше меня на два года; его лучшим другом был Ардер. Только после гибели Ардера мы и сблизились-то по-настоящему. Уже до конца.
— Олаф… — сказал я. — Ты проголодался? Пойдем перекусим что-нибудь.
— Подожди, — сказал он. — Что это?
Он взглянул на автомобиль.
— А-а… ничего. Машина. Купил, знаешь, чтобы вспомнить…
— Была авария?
— Да. Ехал ночью, ну и вот…
— У тебя была авария? — повторил он.
— Ну да! Но это не имеет значения. Ведь ничего не случилось. Пошли… не будешь же ты с этим чемоданом…
Он поднял чемодан. Ничего не сказал. Даже но взглянул на меня. Желваки на скулах у него напряглись.
“Почуял что-то, — подумал я. — Не знает, что привело к аварии, но догадывается”.
Наверху я сказал ему, чтобы он выбрал себе любую из четырех свободных комнат. Он взял ту, с видом на горы.
— Почему ты не захотел здесь? А, понимаю, — он улыбнулся, — это золото, да?
— Да.
Он коснулся рукой стены.
— Надеюсь, обычная? Никаких картин, телевизии?
— Будь спокоен, — улыбнулся я, в свою очередь. — Это честная стена.
Я позвонил насчет завтрака. Хотел позавтракать вдвоем с Олафом. Белый робот принес кофе и поднос, полный всякой снеди: это был очень обильный завтрак. Мы ели молча. Я с удовольствием смотрел, как он жует, — даже прядь волос над ухом у него двигалась.
Потом Олаф сказал:
— Ты еще куришь?
— Курю. Привез с собой двести сигарет. Не знаю, что будет потом. Пока курю. Хочешь?
— Давай.
Мы закурили.
— Ну как? Сыграем в открытую? — спросил он после долгого молчания.
— Да. Я расскажу тебе все. Ты тоже?
— Конечно. Только не знаю, Эл, стоит ли?
— Скажи одно: ты знаешь, что хуже всего?
— Женщины.
— Да.
Мы снова замолчали.
— Значит, из-за этого? — спросил он.
— Да. Увидишь за обедом. Внизу. Вилла нанята пополам с ними.
— С ними?
— Они молодожены.
Желваки снова напряглись под его веснушчатой кожей.