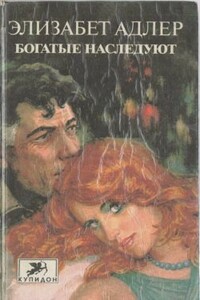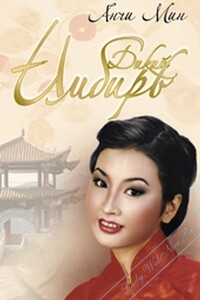Баффи знала, что Шэннон училась в хороших школах, что у нее были хорошие друзья и что она ходила на вечеринки в компании детей своего круга, но она не знала, что у нее было мало общего с кем бы то ни было, кроме отца.
И все же детство ее было счастливым, потому что отец любил ее. Правда, Боба Киффи нельзя было назвать внимательным отцом – он были слишком занят деланием денег, – однако он всегда ухитрялся раскрывать ей смысл главных событий. Он очень гордился своей единственной дочерью.
– Это все твое, детка, – восхищенно говорил он. – И ты сможешь стать кем пожелаешь, в точности как папа. Но запомни, дорогая моя девочка, тебе придется добиваться всего самой. Этим и отличаемся мы, ирландцы, от богачей с прекрасными родословными. Они приплыли сюда на «Мэйфлауере», а мы на своих старых калошах. И они нас презирают!
Отец разразился смехом при мысли о том, что теперь он достиг вершины, могущественный, богатейший среди многих, женатый на женщине, не уступающей в снобизме их женам, и имеющий дочь, на которую он мог расточать свою любовь и деньги.
И все же когда Шэннон спрашивала его об их ирландских предках, Боб Киффи замыкался, как устрица в раковину. Однажды он пообещал ей рассказать все, когда она будет постарше.
Шэннон росла отгороженной от реального мира деньгами и респектабельными частными школами. Летние каникулы она проводила в компании скучавших взрослых на средиземноморских яхтах, а зимние – в обществе таких же взрослых на виллах острова Барбадос. Лучшим временем года были несколько недель в летнем лагере, в компании сверстниц, где можно было вволю побегать и поболтать о мальчишках.
Шли годы. Зубы ее выпрямились, шишки на коленях исчезли, ноги стали длинными и гладкими, а тело гибким. Только пострадавший от падения с пони нос оставался все таким же, несмотря на требования Баффи обратиться к хирургам. У нее была прекрасная фигура. Однако волосы были по-прежнему огненно-рыжими, и по-прежнему веснушки отравляли ей жизнь. В ее серых бездонных глазах отражалась вся ее душа, и каждый мог прочитать в них ее тайные чувства. Это огорчало Шэннон.
Ей было четырнадцать лет, когда она впервые увидела отца в обществе любовницы. В этот день она с двумя подружками смылась с уроков в бостонской школе; они зашли в магазин что-то купить и затем направились выпить чаю в «Ритц-Карлтон». Там она и увидела его с хорошенькой, довольно молодой женщиной. У нее были темные волосы и бледная кожа, и он держал под столом ее руку в своей. Шэннон почувствовала, как кровь прилила к ее щекам. Занятые друг другом, они ее не заметили. Она увидела, как отец нежно провел пальцем по щеке своей спутницы, коснулся ее полных губ, и она, задержав на мгновение руку отца, поцеловала ее. Шэннон отвернулась и убежала, а за нею и подруги.
– Что ты переживаешь? – успокаивали они ее. – Так делают все мужчины!
Позднее отец заметил, что с Шэннон что-то происходило, она не могла посмотреть ему в глаза. В конце концов, девочка рассказала ему об увиденном. Он сердито походил взад и вперед по обюссонскому ковру библиотеки в особняке на Пятой авеню и обратился к ней с почти умоляющим взглядом:
– Я думал, что ты еще слишком молода, чтобы понимать такие вещи, но, оказывается, это не так. Ты все поняла. Я не буду просить у тебя прощения, потому что ты моя дочь, а не жена. Все, что я могу, это просить тебя забыть об этом в надежде на то, что ты простишь меня, когда станешь взрослой и будешь лучше знать жизнь. И запомни, дочка, никогда не верь мужчине.
Позднее, на вечере в ее честь, кружась в очередном танце с Уилом, Шэннон на секунду встретилась взглядом с отцом, одиноко стоявшим в стороне от гостей, и увидела, как оживилось его лицо и как он направился к ней через толпу смеявшихся гостей.
– Не подаришь ли один танец своему старому папе? – спросил он Шэннон. Глаза его были полны любви, и она потянулась в его объятия, легкая и нежная, как эльф. Он смотрел на ее веснушки, очень шедшие к отличавшим всех Киффи рыжим волосам, на мягкие, полные, как у матери, улыбавшиеся губы и унаследованные от далеких предков широко расставленные серые глаза.